
Борис Пастернак, Виктор Шкловский, Сергей Третьяков, Осип Брик и Владимир Маяковский, 1920 г. Архивное фото
О вынужденных эмигрантах первой волны, которые, попав в Европу, остро ощутили разрыв между обывательской жизнью западноевропейских городов и бурным (как многим тогда казалось) развитием Советской России. Как они расплатились за это заблуждение после возвращения в СССР, чем обернулся страх перед системой, доведший их до поступков, вину за которые им так и не удалось изжить. Рассказывает историк литературы Наталья Громова.
О тех, кто все понимал, но выбрал жизнь в России
Виктор Шкловский был тем, кто сознательно выбрал жизнь в СССР, где осталось дело его жизни — ОПОЯЗ (объединение поэтического языка), ученики, друзья и небольшая возможность печататься. Этот выбор был сопряжен с огромным риском. Шкловский был человек парадоксальный, неожиданный, авантюрный, порой эксцентричный, но и… осторожный, умудрившийся в безумном ХХ веке прожить длинную жизнь. Его родные один за другим ушли из жизни много раньше его самого… Брат Николай погиб от чекистской пули в 1918-м, в 1919-м умерла сестра Евгения, был убит (красными или белыми, это до сих пор неизвестно) самый старший брат — Евгений, в 1937-м расстреляли лингвисго… (Спустя много лет основатель формальной школы Виктор Шкловский напишет: «Мы формалисты — это название случайное. Вот я, Виктор, мог быть и Владимиром, Николаем»). Дядя Исаак — вся читающая Россия знала его под именем Дионео, он имел привилегию говорить из Англии эзоповым языком о свободе, о неприкосновенности личности, жилища, частной переписки, о «рабской России» — оказался навсегда в эмиграции.
Виктор Шкловский уходил по льду Финского залива от преследований чекистов, которые охотились за ним как за участником правоэсеровского переворота 1918 года.
Но это «преступление» ему простили, однако судебный процесс над эсерами в 1922 году вновь привлек к нему внимание органов.
Оказавшись в Финляндии, он написал Горькому от 15 апреля набросок своей будущей статьи о русской революционной интеллигенции, к которой относил и себя. Он иронически сравнивал себя как социал-революционера с «пробником» с конского завода — жеребцом, который возбуждает («ярит») кобылу перед тем, как к ней подпустят настоящего производителя-жеребца. По Шкловскому, это и была метафора исторической деятельности социалистов-революционеров, которые «ярили» Россию для большевиков, а в результате оказались выброшены за борт. «Пробник же едет за границу заниматься онанизмом в эмигрантской печати, — остроумно замечает Шкловский. Мы, правые социалисты, «ярили» Россию для большевиков. Но, может быть, и большевики только «ярят» Россию, а воспользуется ею «мужик».

Шкловский. Фото: РИА Новости
Невольно заброшенный в Берлин, Шкловский должен был вглядеться в лицо иного мира, в лицо бежавшей России. И он стал смотреть на него через историю любви, о которой он написал роман в письмах «Zoo, или Письма о нелюбви». Аля (Эльза Триоле) оказалась не только его спасательным кругом, но и увеличительным стеклом, сквозь которое он описывал мир эмиграции. Эмиграции, в которой он ощущал себя абсолютно лишним. Шкловский страдал без общения, недаром он еще в письме к дядюшке Дионео сделал очень печальное признание: «Языков я не знаю». Правда, в Берлине так много русских…
Но к нему равнодушна эмиграция, несмотря на то, что тут много его товарищей. А там, в России, он оставил целый мир своих близких друзей и учеников.
Как бы ни трудна была жизнь Шкловского — непосредственного участника событий в России, там он видел себя героем самой истории и новой филологии. Он чувствовал себя тем, кто создает тягу, кто ведет автомобиль.
Он пишет это в связи с Пастернаком, который тоже не находит себе в Берлине места:
«Этот человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки Дома печати, тягу истории. Он чувствует движение, его стихи прекрасны своей тягой, строчки их рвутся и не могут улечься, как стальные прутья, набегают друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи.
В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере, ее понимает, жил и раньше в Германии, с ним сейчас молодая, хорошая жена, — он же очень тревожен. Не из попытки закруглить письмо скажу, мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы, — нет, мы не беженцы, мы выбеженцы, а сейчас сидельцы. Пока что. Никуда не едет русский Берлин. У него нет судьбы. Никакой тяги».
Оба они остро ощущали разрыв между обывательской жизнью западноевропейских городов и поступательным (как многим тогда казалось) развитием Советской России. Это заблуждение сыграло трагическую роль в реализации идеи «возвращения» эмигрантов в СССР и их гибели.
Шкловский испытывал безответную любовь не только к Але, не хотевшая знать о его чувствах, но и к Советской России, которой со страстным призывом он обращается в последнем — тридцатом — письме, опубликованном в автобиографическом романе:
«Заявление во ВЦИК СССР.
Я не могу жить в Берлине.
Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее.
Неправильно, что я живу в Берлине.
Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться.
Горька, как пыль карбида, берлинская тоска. Не удивляйтесь, что я пишу это письмо после писем к женщине.
Я вовсе не ввязываю в дело любовной истории.
Женщины, к которой я писал, не было никогда. Может быть, была другая, хороший товарищ и друг мой, с которой я не сумел сговориться. Аля — это реализация метафоры. Я придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию.
Все, что было — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь.
Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке начищенные черной ваксой, и синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку».
Конечно же, Аля существовала. И письма к ней посылались. Лиля Брик говорила, что Эльза носила книгу Шкловского, как орден, на груди. Шкловский пробудил в ней честолюбивые мечты о писательстве, он показывал ее тексты Горькому и фактически создал французскую писательницу Эльзу Триоле.
До Виктора дошли слухи об аресте брата Владимира Шкловского. В письмах жене он с тревогой спрашивал: «Что Володя?» И уверял: «Приеду, вытащу».

Эльза Триоле. Фото: Википедия
Вернулся он в Россию в сентябре 1923 года.
Итак, Шкловский выжил, убегая от себя и от собственного прошлого. Он уцелел и в 1936 году в период борьбы с формализмом, будучи, по сути, создателем формального метода в литературе. Но в 1949 году в разгар борьбы с космополитизмом Симонов объявил книгу «Гамбургский счет» формалистической и буржуазной. «Симонов <…> начал с «Гамбургского счета», вступительную часть которого прочел целиком, — писал Шкловский Серафиме Суок. — Оказалось, что эту изданную в 1928 году книгу космополиты цитировали. Я оказался в корне зла. Симонов говорил, что Шкловский должен выступить по поводу своих старых книг и напрасно до сих пор этого не сделал».
Симонов действительно требовал от Шкловского отречения от всего своего прошлого, от ОПОЯЗа.
«Быть может, сейчас В. Шкловский, — с презрением к самому себе — тогдашнему Шкловскому, вспомнит эти написанные им слова. Быть может, он найдет в себе мужество и сам до конца разоблачит свои прежние взгляды и взгляды всей возглавлявшейся им буржуазно-формалистической школки «Опояз», взгляды, глубоко враждебные советскому искусству. Кстати сказать, он до сих пор не написал по этому вопросу ничего до конца внятного, а это было бы только правильно и полезно, и, прежде всего, для него самого».
Шкловский продолжает свое горестное письмо-отчет:
«Я выступил и признал ошибки, говоря, что у литературы нет прошедшего. Все существует. Сговорился потом, позвонив к Симонову, что напишу статью и пошлю ее в секретариат. Если не будет новых ударов (кино, детская литература) т.е. если не будет обвинений свежих я докажу свою правоту.
Новые обвинения даже слабые могут прозвучать неожиданно сильно.
Я говорил нервно и смято.
И так в литературной жизни моей, как и вообще в жизни, — кризис…
Я не лгу, как не лжет лошадь, когда она падает. Я не лгу. Жизнь моя мне кажется уже измеренной и конченой».

Шкловский и Серафима Суок на даче. Архивное фото
Его прекратили печатать. Он вынужден был продавать книги и мебель. Но и тогда ему удалось вернуть к себе расположение власти. «Придется лгать, Алексей Максимович. Я знаю, придется лгать», — писал он перед отъездом Горькому. «Я поднимаю руку и сдаюсь», — обращается он к советской власти в конце книги Zoo.
Он все понимал. И выбрал жизнь в России. Но боялся Шкловский всегда.
Его жизнь по-своему сложилась счастливо. Он дожил до признания на Западе и в России, до издания и переиздания своих книг, но боль о прошлом не уходила. Она стучалась к нему до последних дней.
О вине перед временем, другом и самим собой
С начала 20-х годов Михаил Зощенко был одним из самых ярких писателей. Его слава была такой огромной, что в 1928 году издательство Academia выпустило посвященный ему сборник статей, в котором участвовали В. Шкловский и В. Виноградов.
«Сделанность вещей Зощенко, — писал Шкловский, — присутствие второго плана, хорошая и изобразительная языковая конструкция сделали Зощенко самым популярным русским прозаиком. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Как поезд».
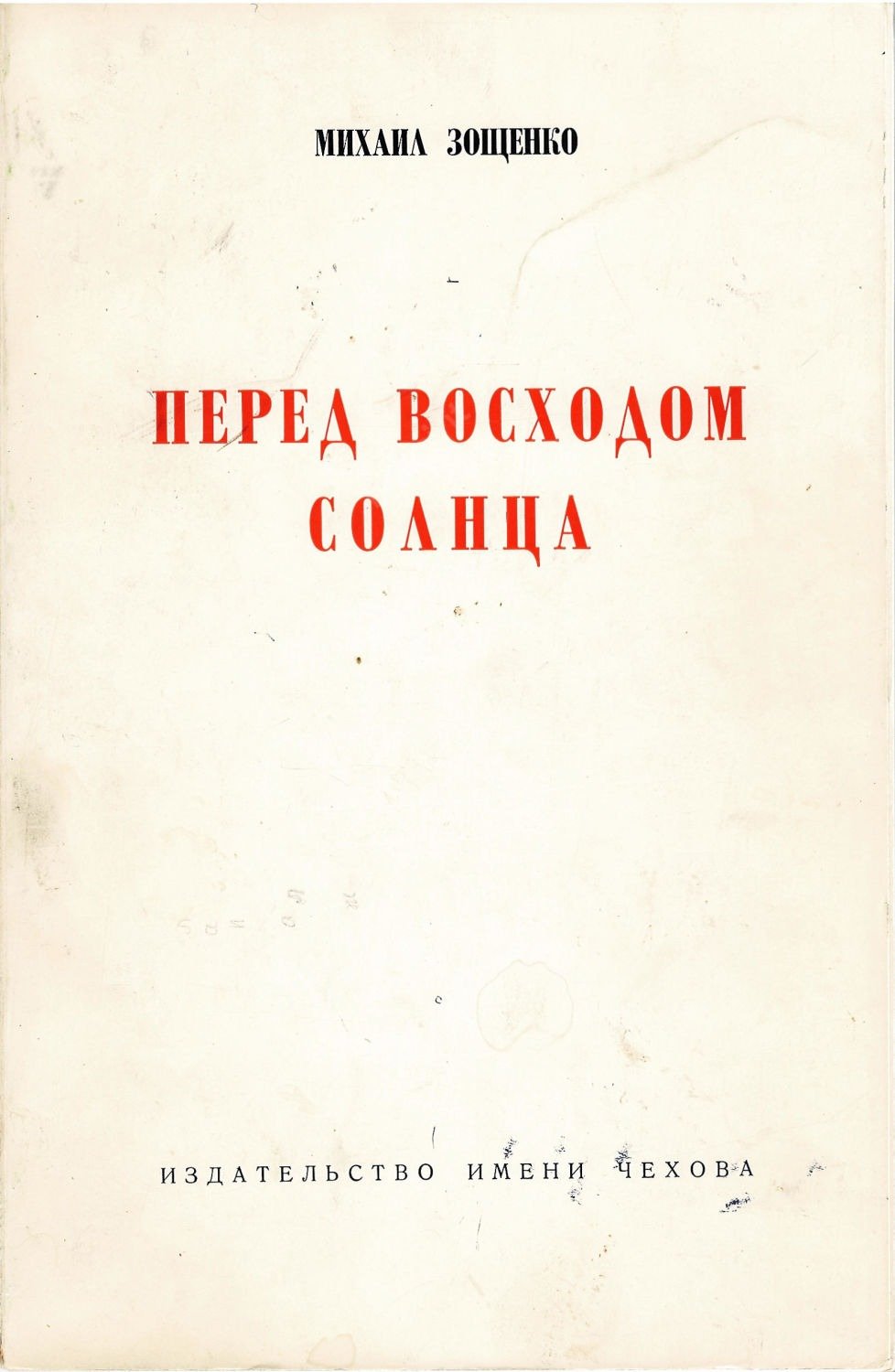
Обложка книги «Перед восходом солнца»
Во время войны Шкловский и Зощенко вместе оказались в Алма-Ате и работали на киностудии. И когда в 1943 году вышла первая часть повести Зощенко «Перед восходом солнца», Шкловский, прочитав ее, сказал: «Миша, ты гений!»
Однако затем последовала жесткая критика Зощенко. 2 декабря 1943 года вышло постановление секретариата ЦК «О контроле над литературно-художественными журналами». Книга Зощенко была названа «политически вредной и антихудожественной».
6 декабря Агитпроп созвал заседание президиума Союза советских писателей, на котором обсуждался журнал «Октябрь». Повесть «Перед восходом солнца» стала главной темой обсуждения. Зощенко получил слово и сумел сказать:
«Здесь я чувствую какую-то враждебность, которую я не заслуживаю… неуважение, какого я не испытывал за все 22 года моей работы. <…> Вы признаете мой опыт неудачным … я считаю, что я прав абсолютно… вы же не читали моей книги… Это же непрофессиональный подход» (см. сноску 1).
20 июля 1944 года Зощенко вызвали на допрос, и беседовал с ним офицер Ленинградского управления НКВД. Причину нападок на повесть «Перед восходом солнца» Михаил Михайлович видел в попытке «повалить» его вообще как писателя, что стало следствием «соответствующих настроений «вверху» (см. сноску 2). Зощенко поведал чекисту, что многие ответственные работники, в том числе автор погромной статьи в журнале «Большевик» А.М. Еголин — один из руководителей Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б), — до начала проработочной кампании повесть хвалили, а затем в одночасье поменяли свое мнение на противоположное.
В качестве примера подобного двурушничества писатель назвал Виктора Шкловского:
«В частности, могу назвать Шкловского — Булгарина нашей литературы — до «разгрома» повести он ее хвалил, а потом на заседании президиума Союза писателей ругал. Я его обличил во лжи, тут же на заседании» (см. сноску 3).
Огорчил Зощенко и его бывший друг поэт Николай Тихонов, один из «Серапионовых братьев»:
«Он хвалил ее. Потом на заседании президиума объяснил мне, что повесть «приказано» ругать, и ругал, но ругал не очень зло. Потом, когда стенограмма была напечатана в «Большевике», я удивился, увидев, что Тихонов меня так жестоко критикует. Я стал спрашивать его, чем вызвана эта «перемена фронта»? Тихонов стал «извиняться», сбивчиво объяснил, что от него «потребовали» усиления критики, «приказали» жестоко критиковать — и он был вынужден критиковать, исполняя приказ» (см. сноску 4).

Михаил Зощенко. Фото: репродукция ТАСС
Но тот же Тихонов дал понять Зощенко, что пик его неприятностей уже позади:
«Когда я его видел в Москве, Тихонов сказал, что я уже «вышел из штопора».
Раздосадованный на прежнего друга, Зощенко написал записку Шкловскому. Хотя, может быть, эта записка без даты относится к другому времени.
«Витя, ты сказал так сильно и едко, что только очень тупые люди могли не услышать. А я после тебя не могу говорить — я почти равнодушен к тому, что тебя тревожит. Я не верю, что искусство сейчас возможно. Даже в малой степени. И что говорить — слова повиснут в воздухе. Как, в сущности, повисли и твои великолепные слова. От этого погода не изменится. Даже если б мы с тобой тут плакали.
Твой несчастный Зощенко» (см. сноску 5).
Незадолго до смерти Зощенко Шкловский написал извиняющееся письмо, в нем старался доказать несчастному и поверженному писателю, что его судьба закономерна, потому что сатирик всегда жертва. Однако Шкловский не снимал вину и с себя.
«05.02.1958
Дорогой Михаил Михайлович!
Друг мой, не смею писать рукой, потому что у меня безрукий почерк.
Гоголь писал про писателя сатирика:
«…ему не избежать наконец от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта».
Гоголь писал про страшную, потрясающую тину мелочей, которая опутывает жизнь, о повседневных характерах, о неумолимости человека, который покажет это на всенародные очи.
Так написано у Гоголя в гл. седьмой «Мертвых душ». Поэт сатирик — судья и жертва. Жертва эта искупает эпоху.
Но в грозной вьюге вдохновенья надо видать великое, крупное и именно для того, чтобы судить мелкое.
Гоголь был прав и неправ, и неправ был тогда, когда хотел поправиться.
Сатирик не должен считать, что обидели именно его; он сам выбрал свою судьбу и сам должен думать о том, чтобы время его, его обидевшее им самим не было обижено, а понято и в сатире и в лирических местах и в подвиге Тараса Бульбы.
Во многом виновен перед временем и самим собой я Виктор Шкловский.
Ты очень много сделал, сделал хорошо и бесстрашно, но не мучай свое сердце, есть неправота и у тебя. Только ничтожные — всегда правы.
В. Шкловский» (см. сноску 6).
Зощенко умер 22 июля 1958 года.
Несомненно, Шкловскому не давали покоя ни свое поведение по отношению к скоропостижно ушедшему товарищу, ни то, что он не смог получить его прощение. В письме от 5 февраля 1964 года к Елизавете Полонской, которая поделилась с ним своими воспоминаниями, он писал:
«Вы пробили брешь в молчании, которым окружено имя Миши Зощенко… нужно его описать: его темные лапки с темно-желтыми ладонями, его манеру стоять, военную вежливость, девичью обидчивость, прямые ноги, красивые глаза, тихий голос, необыкновенную привлекательность для женщин; я этой привлекательности и сейчас завидую. Вот этот человек искренне желал, как бы Вам сказать, не благообразия, а душевного благоустройства мира, и грусть по неустройству мира и сделала человека юмористом.
Люди, живущие неправильно, иногда казались ему печальными бесприютными обезьянами, но люди все для него были занятны, умны.
Великий писатель Михаил Зощенко научил революционное поколение разочаровываться в своем быте, видеть в себе смешное; он любил так будущее и так понимал в прошлом, что быт для него был фарс, и Россия в нем прощалась со своим прошлым. Вероятно, то, что я говорю, приблизительно, но я так думаю и хотел бы написать, если время позволит, о Михаиле Зощенко» (см. сноску 7).
Воспоминаний о Зощенко Шкловский так и не написал.
сноски
- Цит. по: Бабиченко Д. Писатели и цензоры: Советская литература 40-х гг. под политическим контролем ЦК. — М.: Россия молодая, 1994. — С. 77.
- Протокол беседы М.М. Зощенко с сотрудником Ленинградского управления НКГБ СССР 20 июля 1944 г. // Власть и художественная интеллигенция. С. 513.
- Там же. С. 514.
- Там же.
- Цит по: Сарнов Б. Виктор Шкловский до пожара Рима. // Литература. 1996. № 21.
- Из частного собрания (семейный архив Н.Е. Шкловского-Корди).
- Там же.