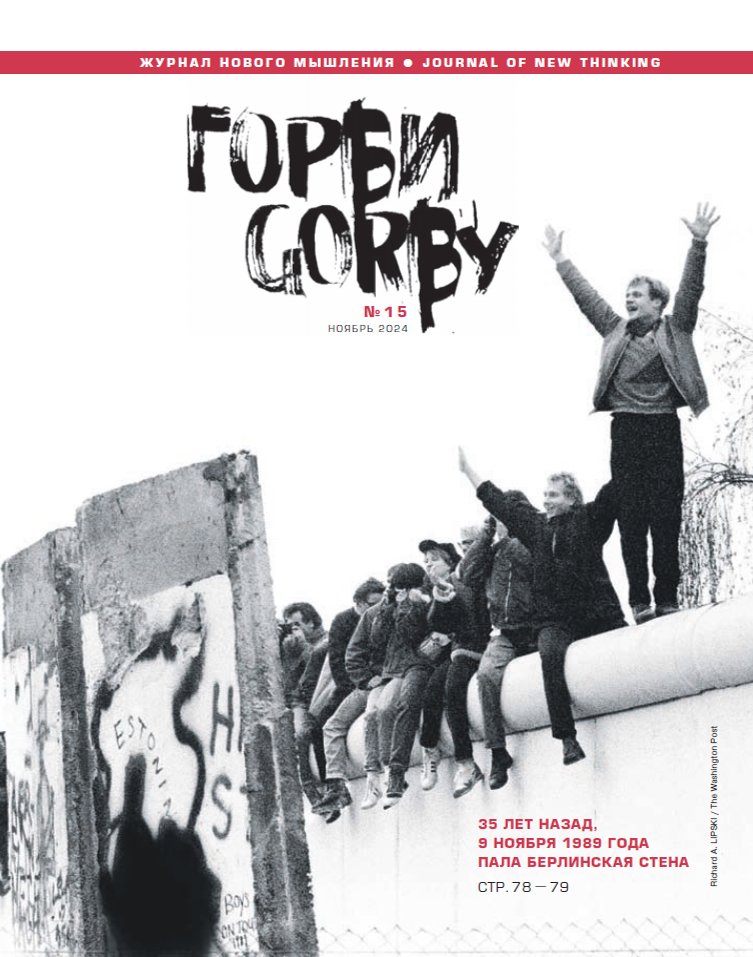Фото: Наталья Чернова / «Новая газета»
Второй год несколько раз в неделю я хожу на склад. Я волонтер, моя работа — сортировать вещи, которые приносят москвичи для беженцев из Украины, а с недавнего времени и из Курска.
Если бы пару лет назад мне сказали, что разбирать барахло в тесном помещении и общаться с людьми, которые находятся в острой фазе депрессии, станет важным для меня делом, я бы отреагировала со скепсисом. Теперь, спустя почти два года, искренне считаю, что склад спас меня от личной катастрофы. Той, что для многих началась 24 февраля 2022 года. Странно звучит, но меня удержали «вещи для беженцев».
Начиная этот текст, я поначалу думала, как важно рассказать человеческие истории, но масштаб потерь и горя тех, кого я встречаю, описать мне не по силам. А вещи — это то, что человека привязывает к жизни. Потому я решила писать о вещах.
Логика выбора
Работа здесь рутинная и не такая уж легкая. Каждую принесенную сумку с вещами нужно взвесить, положить в общую кучу наваленных горой вещей, а потом рассортировать все, что обнаружится в ней. Детское и взрослое, большое и маленькое, обувь и пальто, чашки и кастрюли.
Грязное и заношенное до неприличия отправляется в мешок с надписью «Утиль». Кондиционное — на полки.
Утиля из всех принесенных вещей почти треть. Не потому, что волонтеры слишком щепетильны. А потому, что для некоторых «жертвователей» формат помощи беженцам — это удачный шанс безболезненно избавиться от надоевшего тряпья. Не на помойку же нести, в самом деле. Утилитарно-нравственного окраса жест — и шкаф разобрал, и вроде как в благом деле поучаствовал. Бесит такое…
Чем больше вещей проходит через мои руки, тем неотвратимее меняется мое отношение к ним. А, собственно, какое это было отношение? Как у благополучного московского жителя главные критерии оценки — стиль и качество. Сейчас в моей вещевой «пирамиде Маслоу» эти настройки сбиты. Потому что оказывается, что платье от Brunello Cucinelli (шелк с вискозой, пурпурный цвет, стоимость в интернет-магазине — 32 тысячи рублей) здесь может висеть в зале несколько месяцев, а изделие фабрики «Ивановский трикотаж» уйдет, не провисев на вешалке и десяти минут. Потому что в «Ивановском трикотаже» бывшие теперь уже жители Украины ходили до соседнего магазина в своей Макеевке, и огород пололи в своем Бахмуте. Инородность вещи — импортная, брендовая, слишком дизайнерская — приходящими сюда людьми воспринимается как незнакомая, а значит, чуждая. А в их новой жизни чуждое теперь все. Поэтому хотя бы вещь, которая к телу, должна быть понятной.
Еще из самого востребованного — крепкие мужские кроссовки 42–43-го размера и женские на полную ногу сорокового. Рабочие куртки и флисовые спортивные костюмы, простые футболки… Кофты трикотажные, лучше на пуговицах. Штаны утепленные…
Беженцу, уехавшему в Россию с одной парой белья и впопыхах схваченной курткой, не до стиля. Ему одежда нужна для спасения.
А москвичи в одежде не ищут укрытия, они в ней самореализуются. Поэтому склад забит никчемной и якобы стильной одеждой размера XXS, купленной на один сезон. Теперь и я такую разлюбила.
Вещь должна быть надежным товарищем, а не случайной тряпкой.
Подтверждение этой своей максимы я вижу здесь каждый день.
«…Девочки, миленькие, мне бы платье… — Женщина лет 60 в выцветшем платье с размытыми фиолетовыми цветами продолжает: — А то я в этом третий месяц уже. Стираю раз в три дня и ночью сушу. Утром опять надеваю». Уточняю у нее: «А какое вы хотите?» Она теряется: «Та любое. Шоб впору було». Я шарю среди вешалок с женскими платьями, почти наверняка зная, что ничего для нее не найду. Так и выходит. Ищу в мешке с большими размерами в подсобке. Наконец выуживаю платье нужного идейного содержания (удобное, немаркое, свободное). Она прижимает его к груди двумя руками.

Фото: Наталья Чернова / «Новая газета»
Пришел дед в обтягивающем новом спортивном костюме, из-под которого выглядывает старая рубашка в клеточку. Еще советского года рождения. Спрашиваю, что нужно. Дед смотрит растерянно: «Все… Мы ж с-под Каховки. Нас затопило, когда ГЭС взорвали. В чем были, в том и убежали…» Задумывается на секунду и спрашивает: «А исподнее у вас дают?»
Я иду на склад и из коробки с новыми футболками достаю белую, с Дарт Вейдером во всю грудь. Дед радуется:
«От отлично». Еще ему перепадают практически новые кроссовки Furla. Строго говоря, это женские кроссовки. Но деду я об этой их особенности не сообщаю, он с радостью вертит ступней в новой обувке и окликает меня, хвастаясь: «Во! Впору!»
Обувь — самое дефицитное и ценное на нашем складе. Ее приносят немного (кроме детской) и в основном здорово ношенную. А если не ношенную, то на каблуках. Такую, что не для жизни, а для фотосессии.
Девочки и женщины обычно долго и растерянно толпятся у полок. Их взгляд не цепляет ничего ценного. Тогда я подхожу и беру ситуацию под контроль: «Смотрите, вот кожаные кроссовки. Если их немножко протереть, они почти новые. И у них еще кожаная стелька, а значит, ноге будет очень комфортно». На меня смотрят с недоверием. Я почти силой заставляю померить. И когда нога попадет в обувку, угнездится в ней, лицо человека становится удивленно-размягченным: «Ой! А что ж так удобно?! Спасибо, спасибо!»
Я не сообщаю, что на самом деле стоили они 7–10 тысяч, поэтому и ортопедические, и дышащие. Те, кто приходит сюда, в большинстве своем никогда не могли позволить себе такую обувь. Слишком дорого.
Понимание качества обуви это, если хотите, тест на уровень жизни. За редким исключением, посетители склада его не проходят.
И предпочтут новые китайские, резко пахнущие клеем ботинки, которые не переживут и один сезон, неновым, но неубиенным ботинкам условного Timberland. По правилам, волонтер, который помогает выбрать вещи, не должен расспрашивать беженцев о том, что они пережили. Только о насущном. Я и не спрашиваю. Но часто на практический вопрос «Чего вам не хватает из одежды?» я получаю рассказ о том, что пришлось пережить. Я сначала не понимала, почему вопрос об условной куртке дает такое продолжение. А потом поняла. Этих людей, шедших днями по военным дорогам, голодающих и испуганных, потерявших все, никто не спрашивал здесь, в России, о пережитом. А кому душу-то излить, или если не излить, то хоть выговориться? Не своим же товарищам по несчастью.
Вопрос о куртке — это триггер. Потому что это вопрос о судьбе, в которой человек в одночасье лишился всего.
…По правилам фонда, помощь беженцу из Украины оказывается полгода. Предполагается, что за это время ему и его семье удастся как-то устроить свою жизнь. Поэтому первый визит за вещами — это получить хоть что-то, чтобы одеться, без особых претензий. Второй — за постельным бельем и подушкой. Третий — за утюгом и кастрюлькой. А вот пятый — это за радостью. Этих женщин с отмеченными горем лицами, но с уже живыми глазами видно сразу. Они приходят, чтобы ощутить свою витальность, а для этого нужно себе понравиться. А понравиться можно, только если найдется вещь, которая это разбудит.
Никогда не угадаешь, что это будет — может, шарфик, а может, светлое тонкое пальто, а может, та самая куртка, но с внутренностью из натурального пуха и потому обнимающая почти физически.
Они всегда стесняются мерить вещь не строго утилитарную, а откровенно красивую, праздничную. Я тихонько подталкиваю женщину в спину к зеркалу: «Посмотрите, как вам идет. И цвет ваш… Что значит, некуда носить? Вот возьмете, и сразу появится куда».
Иногда они возвращаются… «Вы в прошлый раз мне такое платье нашли! Спасибо! Я себя прям человеком почувствовала». Я всегда немного теряюсь от градуса их благодарности. Новое платье не может ведь остановить (…), но, оказывается, оно способно сломать «комплекс жертвы». Это их «спасибо» для меня способ преодолеть свою личную тотальную беспомощность перед действительностью.
Странное дело, став за несколько месяцев адептом практичной и удобной одежды и начав почти презирать в своем мире вещей все «красивенькое» и избыточное, я неожиданно для себя поняла, что флисовые штаны и шифоновая блузка с белыми летящими рукавами стоят на одной ценностной шкале. Обе вещи равноценны: первая — чтобы выжить. Вторая — чтобы начать жить. Просто
беженцы в своем большинстве жить после катастрофы пока толком не начинали. Поэтому флисовые штаны идут в запросах за номером первым.
Еще к зиме в первый сезон работы фонда москвичи с азартом людей, освобождающих шкафы, несли дубленки времен 2000-х и каракулевые и цигейковые шубы из советского прошлого. Бабушкины шубы. Это стало проблемой. Во-первых, их никто не брал. Во-вторых, стойка, на которой они висели, регулярно обрушивалась под их тяжестью. Эта неприязнь к статусным когда-то вещам дала понять, что даже в самой критичной ситуации люди не готовы носить устаревшие вещи. Даже дорогие, даже качественные.
И это вовсе не каприз. То, как человек выглядит, дает ему уверенность в себе, и, значит, дает силы. Бабушкина каракулевая шуба точно к этому ресурсу не относится. Провисев в тщетной надежде быть пристроенными, шубы и дубленки уехали в утиль.
Волонтеры
Первые месяцы после открытия фонда весной 2022 года волонтеры на склад приходили десятками каждый день. Пристегивали бейджики со своими именами и яростно бросались на «амбразуру» немыслимого количества приносимой одежды. Горы пакетов заполняли помещение склада с четырехметровыми потолками почти доверху. Казалось, что разобрать это нереально в обозримой перспективе. Некоторые торговые сети присылали десятки тонн продуктов. Их тоже нужно было фасовать по пакетам и раздавать. Беженцы не отказывались ни от чего. Даже жидкое хозяйственное мыло, которое в нормальной жизни и даром не нужно, уходило влет.
Те азартные и очень сочувствующие люди первой волны были очень важны. Они помогли справиться с катастрофой «затоваривания», а еще они давали ощущение, что люди, все без исключения, в шоке от (…) с Украиной.
Для многих (да и для меня) эта работа дала шанс не только спасти беженца от лишений, но и спасти себя.
…Приблизительно через полгода волна массового волонтерства стала стихать. Остались те, кто, пережив эмоциональный подъем и выброс адреналина «спасателя», почувствовали в себе силы на длинную дистанцию. Моими коллегами по складу оказались на удивление разные люди.
Люба. Активная женщина на пенсии. Подвижная и разговорчивая, Люба приходит на склад два раза в неделю на несколько часов. Она всегда стильно одета и оптимистична. Однажды Люба решила поделиться впечатлением: «Девочки, у меня внучке в школе задали написать письмо солдату. Вот послушайте, я вам прочту: «Дорогой солдат! Меня зовут Лена, я учусь во втором классе и очень переживаю. Бей смело нацистов, дорогой солдат, и возвращайся с победой!» У Любы дрожит голос и наворачиваются слезы.
Мы молчим. Люба продолжает, обращаясь к Кате, директору склада: «Катя, в школе дети посылки солдатам собирают. Можно я тут шерстяные носки возьму?» Катя в просьбе отказывает, а Люба, похоже, искренне не понимает, что такого странного в том, чтобы взять вещь от беженцев и отправить на фронт, который этого самого беженца лишил дома.
Но любые споры о (…) и о политике на складе абсолютное табу. Единственное, в чем сходятся все, что (…) — это зло.

Фото: Наталья Чернова / «Новая газета»
Андрей. 35-летний молодой человек из Архангельска. Печник. Постоянной работы нет, и он решил на три месяца приехать в Москву поработать волонтером. Андрей приходит к открытию и уходит вечером. Его «специализация» — дети. Он собирает все принесенные игрушки и сортирует их по отдельным контейнерам по возрасту. Он разбирается во всех лего, «настолках» и динозаврах. Он точно знает, как и чем осчастливить трехлетку и 12-летнего замкнутого подростка. Я как-то спросила Андрея, почему он здесь, а не пытается хоть как-то заработать. Он ответил обескураживающее: «Я посчитал, что моих денег хватит, чтобы прожить здесь три месяца, я все спланировал. Я понял, что должен что-то делать, я не могу дома сидеть и тупо сводки читать». Андрей приносит в фонд сушки и питается дошираком. Живет у родственника в Одинцове.
Через три месяца, когда его личная «смена» закончится, он перед отъездом передаст мне тысячу рублей и попросит перевести деньги на адвоката Алексею Москалеву, которого осудили за антивоенный рисунок дочери.
Молодой человек Даниил. Работник — для нашей специфики незаменимый. Так тщательно наводить порядок на полках не получается ни у кого. Даня — аутист. Я это поняла не сразу, просто он отчего-то совсем не реагировал на шутки. Только как-то напряженно вслушивался в сказанное. Короче, мне стало неловко, что я не сразу дошла до Даниной сути.
Еще запомнился Павел, очень симпатичный и располагающий мужчина лет 60. Павел с удовольствием рассказывал молодым волонтерам о разных странах, где он бывал, с подробными историческими экскурсами. Его «специализацией» были детские вещи. Каждое утро он невозмутимо начинал свой сизифов труд — разбирал детские стеллажи. Посетители не слишком аккуратны, и выдернутые из стопок вещи в конце дня валялись бесформенной кучей. Павел педантично наводил порядок, проявляя внимание к каждым взятым в руки ползункам и комбинезонам.
Но после моего летнего отсутствия Катя сообщила: «А ты знаешь, Павел больше к нам приходить не будет. Он сказал, что изначально хотел помогать бойцам, а здесь беженцы…» Как выяснилось,
Павел служил в органах. Ушел в отставку. Признался, что хотел бы сетки маскировочные плести, а не беженцам помогать. Быть, строго говоря, более эффективным в трудное для страны время.
А хороший ведь был дядька, очень тщательно детские вещи перебирал и печенье вкусное всегда приносил к чаю.
Я пишу о волонтерах, с которыми знакома сама. А есть еще и волонтеры-кураторы. Это те, кто берет на попечение несколько семей и помогает им во всем, что касается обустройства жизни: записаться к врачу, оформить документы, устроить ребенка в школу, найти жилье… Они часто приезжают с ними на склад и помогают выбрать одежду. Они, по сути, как поводыри у слепого. Это тяжелая работа. Некоторые подопечные (их так здесь называют) считают, что куратор теперь их личный персонал, и, значит, можно звонить днем и ночью, просить, срываясь на крик, срочно достать фен или кофеварку, заказать очки и найти лучшую съемную квартиру. Некоторые, как оказалось, не вполне понимают, что их куратор работает бесплатно и требовать от него в тоне «вы нам должны» неуместно.
Кураторы обижаются. Это понятно. Трудно принять то обстоятельство, что твой искренний порыв не оценили и не благодарят тебя с желаемой долей интенсивности.
А бывает катастрофа. Одна куратор поселила в своей семье пожилую одинокую женщину. Та прожила у нее полгода, питалась и пользовалась всем. Отогрелась и поправила здоровье. А потом написала на куратора донос и отнесла участковому. В доносе подробно излагалось, что женщина плохо воспитывает детей, потому что вся ее семья, в том числе и несовершеннолетние дети, против (…), президента Путина не поддерживают, а вечерами обсуждают, в какую пропасть катится Россия.
«Доносчице» нашли новое жилье.
Штатные сотрудники склада тоже беженцы. Яркая и красивая Юля из Мариуполя всегда в отличном настроении. Это вообще-то странно, но через несколько месяцев я понимаю, что ее внешний оптимизм — это способ сохранять собственное достоинство. Но сегодня я вдруг вижу, как она стоит в подсобке и, уткнувшись в телефон, плачет. «Юля, что?» Она оборачивается и тихо говорит: «Иди, что покажу». Я смотрю в экран ее телефона и вижу размытые черные тени. Она листает фото и рассказывает: «Вот это моя библиотека, белая, а над ней ниша для цветов». Ее палец листает дальше: «А это я новую спальню купила, итальянскую»… «Больше всего мне кухня нравилась. Я ремонт в новой квартире за полгода до (…) сделала… Я очень белый цвет люблю…» На кадрах обугленные стены, разбитые окна, остатки сгоревшей мебели. Она гладит каждый кадр пальцем.
Юля, как и все работники, приходит на склад в спортивной одежде. Так удобнее работать. Но сквозь флисовую бесформенность проступает неистребимая ее женская сущность. В какой-то момент я, обнаружив в очередном пакете новое шелковое платье, прошу ее: «Померяй, а?» Она долго отнекивается, но потом идет к зеркалу и всматривается в него каким-то иным взглядом. Потом оборачивается и строго спрашивает: «Вот зачем тебе это надо?» Я отвечаю: «Просто я хочу, чтобы у тебя все было…» Она обнимает крепко: «А у меня уже все было».
Юля по своей природе созидатель и спасатель. На таких держится мир. Она говорит, что ее натура такая оттого, что ее в детстве родители очень любили, а папа вообще на руках носил. Только умер папа рано.
Мы сидим у нее на кухне в съемной квартире и пьем коньяк. Сначала с веселыми тостами, а потом молча. И она вдруг начинает говорить без остановки, а слезы безостановочно стекают по лицу:
«…Я долго не уходила в подвал. Уже прилетало вовсю, а я не хотела. В коридоре на пол ложилась между ванной и кухней, кошку обнимала. А когда ударом лоджию выбило, то ушла. Нас в подвале человек тридцать было. Бабушка лежачая, девушка с ребенком, папа с сыном-инвалидом, ну парень соображал плохо. Остальные вроде все были самостоятельные. Ну как самостоятельные… Мужики сразу пить начали, может, правда, так и лучше… Чем истерить. А как мы поняли, что сидеть нам долго, то страшно стало. Света нет, воды нет… Я между налетами домой в квартиру бегала — кошку кормила. Наши мне говорили — ты совсем ку-ку, кошку кормить под обстрелами. А что ж, бросить ее?! У меня эти полтора месяца как одно черное время, и помню его фрагментами. Как я дрова рублю, а ногти мои наращенные мешают, и я беру плоскогубцы и херачу их под корень. Как бегала домой за едой — у меня всегда запасы были, я сразу все вниз не несла, а каждый день по яичку бабушке и девочке маленькой, а дорогие бутылки с алкоголем меняли на бензин. И воды я еще ванную набрала, тоже ведрами бегом носила. А еще помню, что не спала совсем, шагами подвал меряла — туда-сюда… Ложилась, только чтобы Елизавету Романовну, я так девочку маленькую звала, усыпить. У нее мама тоненькая, плакала часто. А я свитер задеру, ребенка на живот себе положу, она согреется и засыпает. И еще я для детей игры придумывала, конкурсы всякие. Я, честно, сильно злилась на людей, которые ныли или паниковали. Утром ведро с говном надо из подвала выносить, а не лежкой лежать. А таких много было. Ну посмотришь на них, а что толку орать… И прешь это ведро. А потом соседний подвал разбомбило и стало ясно, что надо уходить. Все, кто мог идти, собрались, а папа с диабетом и сыном так там и остались, и бабушка парализованная с сыном. Наверное, убило их.
…Шла я в сторону России двое суток, «коридора» никакого не было. Под какими-то кустами дремала по полчаса и дальше шла, мимо домов горящих, мимо фрагментов тел. Очень много крови было под ногами. С собой рюкзак с ноутбуком и Афина, кошка моя, в руках. Потом помню, что с какого-то блокпоста нас в автобусы посадили и привезли в Таганрог. Я первый раз там расплакалась. Стою в душе и плачу. Ногти сгнившие на ногах пришлось потом удалить, волосы выпали, и я спать перестала. Мужчина, которого я любила, уехал с дочерью во Львов… Я никогда не думала, что можно вот так в один миг все потерять — дом, город свой, мужчину любимого. Все фотографии и вещи. Я очень жалею о детских фотографиях, где я вместе с родителями…»
Волонтеров, стоящих по обе стороны фронта, приблизительно поровну. Это меня сначала поразило, я-то была уверена, что все будут (а как иначе) исключительно антиэсвэошных убеждений.
Рутина
Еще из коридора, ведущего на склад, чувствую запах валокордина. На диванчике сидит женщина лет 50, бледная и растерянная. Ей наши уже померяли давление, оно подозрительно хреновое.
Предлагаю скорую, она наотрез оказывается. Я сажусь перед ней на корточки, беру за руку. Всматриваюсь. Лицо хоть и бледное, но без синевы вокруг рта и лоб без испарины. Дышит ровно. Предлагаю полежать. Подсовываю ей под голову белого огромного плюшевого медведя. Она ложится, поджимает коленки к груди. Сразу становится маленькой. Спрашиваю, что ей нужно из одежды, и начинаю носить ей на выбор зимние вещи и складываю рядом. Она растерянно и тихо плачет… Через полчаса вижу, как она с удовольствием меряет перед зеркалом зимнюю куртку. Отпустило.
Почти все беженцы в разговорах жалуются на здоровье. Почти все резко худели, кто-то до истощения. Об этом говорят, когда меряют вещи: «Это я еще поправилась, а так, пока в подвале сидели, 15 килограмм скинула».

Беженцы из Харьковской области прибывают в Белгород. Фото: AP / TASS
И дело тут не только в недоедании, но и в затяжном хроническом стрессе. Слезы у всех близко. Еще одна частая жалоба на то, что после взрывов получили контузию и теперь проблемы со зрением, либо со слухом. Давление скачет, бессонница — это практически у всех, кому за 50. Поголовно (в буквальном смысле) у всех плохие волосы — поредевшие, тусклые и истонченные — и сероватый цвет лица. Но через несколько месяцев замечаешь, как лица потихоньку светлеют и расправляются, что ли. Или мне так хочется верить, что расправляются?
Иногда обрывки разговоров или подсмотренные ситуации рассказывают о людях больше, чем их анкеты. Как вспышки стробоскопа, они высвечивают трагедию отчетливее подробных рассказов.
«Девушка, а где куртку посмотреть? Мне нужна новая куртка и новая жизнь. Если выдаете…»
Бодрый дедок просит «книгу отзывов». Такой специальной книги здесь нет, он получает листок бумаги и долго пишет, упоминая всех поименно, кто помог. И комментирует: «Россия ни хрена не помогла, только здесь вот помогли… Приехали, живем тут как побирушки, никому до нас дела нет. А я думаю, что надо хохлов здесь отлавливать… Они все диверсанты. Из-за них мы все потеряли».
Три пожилые женщины, держатся за руки. Набрали немного вещей. Смущенно спрашивают: «А носочки вы не выдаете?» Возвращаюсь с носочками. Смущаясь уже окончательно, просят еще одну пару: «Это для Люды, она сегодня прийти не смогла, у нее давление». Даю. Благодарят так, будто озолотила.
Дядька эффектной наружности. Читает собственные стихи, стоя посреди зала.
Не в рифму. Особенно запомнилась строка: «Хочу, чтоб дети Мариуполя смотрели счастливо вперед в домах с разрушенными крышами».
Женщина в истерике: «Не надо мне вашего платья, некуда мне наряжаться, у меня муж в больнице умирает».
Девушка в глубокой беременности стоит у рейла и гладит по рукаву норковый полушубок. Снимаю его с вешалки и предлагаю померить. «Ой, да не надо, на мне не сходится, я его не застегну». Стесняясь, надевает, смотрит счастливо в зеркало. Я ей: «Берите, через два месяца уже сойдется».
«А вы раскладушки выдаете? Мы на куртках на полу уже месяц спим. Квартиру без мебели сняли…»
Два старичка. Уставшие, сидят в зале на диванчике и пьют чай из своего термоса. Взяли кастрюльку и комплект постельного белья. Дедушка спрашивает: «А у вас там в коридоре столик детский стоит. Это только детям выдают? Мы дома на кровати едим. Нам бы хоть что-то, чтоб чайник поставить…» Уходят со столиком.
Грузная женщина, приехавшая в поношенной мужской олимпийке в холодный осенний день, пытается найти на полках что-то теплое. Катя выдает ей мужское худи с капюшоном. Она натягивает его через голову, обнимает себя за плечи: «Тепло как…» На худи белым по черному надпись: «Без комментариев».
«Вы, может, мне еще и Шанель найдете?» Мужчина лет сорока, высокий, с интересным лицом, как будто с картин Эль Греко, переходит на крик. Я не совсем понимаю, о чем он. «Что вы на меня смотрите? Вы ж тут меня в фирму одеть собрались? Так одевайте!» Несколько минут назад я принесла ему померить кожаную итальянскую куртку — практически новую. Да еще и радостно приговаривала: «Слушайте, как вам идет! Это очень хороший бренд. Вы ее долго проносите…»
У него явно истерика. Он смотрит на меня в упор, почти с ненавистью. Мелкий бисерный пот над губой. Я теряюсь. Он швыряет куртку на пол. Его мать испуганно тянет его за рукав: «Витя, Витя… Не надо». Он отталкивает ее резко и уходит.
Мужчинам сложнее принять новую судьбу. Они приходят на склад в двух состояниях — либо «мне ничего не нужно», либо «ладно уж, покажите, что тут у вас есть».
Сначала мне это казалось высокомерием, потом поняла: они так защищаются — от краха жизни и краха своего мужского статуса спасителя, кормильца и вообще «каменной стены». Нету теперь у них никакой стены, одни обломки.
Женщинам проще. Они вьют свое гнездо, опираясь на инстинкт, а не на статус. Они из «щепочек» жизни — чужих вещей, неновых кастрюль и табуреток создают опору для бытия. «Быть или не быть?» — это очень практический вопрос, иногда это вопрос ботинок, в которых не стыдно пойти искать новую работу.
Вещи не первой необходимости
Книги берут часто. Некоторые зависают у книжных полок и разглядывают, перелистывают. Самые лучшие книжки — детские. Новые, с иллюстрациями, сказочные. Для взрослых — классическое советское книгоиздательство — книги по самосовершенствованию, непременно Ефремов и Пикуль. Ну и Донцова, куда ж без нее. Здесь, как и с вещами, две трети принесенного, что самим не нужно. Печатный одноразовый мусор. Но книги нужны.
…На диванчике сидит дед, худой, с помутневшим от катаракты глазом. На коленях стопа книг до подбородка. Рядом его жена в сумку складывает вещи и тихо отчитывает его: «Федя, как мы это все попрем? У меня уже поясница не разгибается, а ты набрал тут…» Федя, улыбаясь, сообщает: «Ты не понимаешь. Это английские детективы». Он похож на ребенка, которого осчастливил Дед Мороз. «Да ты хоть себе свитер поискал бы…» — раздраженно продолжает жена. Я приношу сидящему в обнимку с книгами Феде крепкие кожаные перчатки. Он отказывается: «Та не ношу я их. Теряю». Я убеждаю: «Здесь зимы сырые, без перчаток нельзя». Он натягивает их на руки и прихлопывает: «О, как раз по мне» — и, уже не снимая их, продолжает обнимать свои английские детективы.
«А у вас есть книги по биологии?» — на меня требовательно смотрит парень. «Что вы имеете в виду?» — уточняю я. «Книги по биологии». Мне кажется, что он слегка не от мира сего. Я показываю ему на стеллаж и сообщаю, что весьма вероятно, что и по биологии тоже можно найти. Он уходит часа через два, без единой шмотки, все это время просидев на диванчике и уткнувшись в детский географический атлас.
Иногда приносят вещи, необходимость которых для беженцев мне кажется очень спорной — сюртук пастора, телефонный справочник адресов московских писателей, надувного человека Валеру, три свадебных платья, гидрокостюм, защитный жилет для мотоциклиста, туфли для стрип дэнса, водородный обогатитель воды, обмундирование для скалолазания, домик для кролика, футбольные бутсы 44-го размера.
Про детей
Половина всех посетителей приходит на склад с детьми. От двухмесячных и старше. Их мы отправляем к уголку с игрушками, которые сложены в коробках. Ограничить хоть как-то сферу их неукротимой деятельности невозможно, особенно если собирается несколько детей. И тогда по полу среди рейлов с одеж-дой начинает прокладываться железная дорога, ездить машинки и собираться пазлы. Взрослые аккуратно перешагивают через игрушки. И никто никогда не раздражается на детский беспредел.

Фото: Наталья Чернова / «Новая газета»
К детям, и своим, и чужим, у беженцев отношение не то чтобы трепетное, а какое-то очень чувствительное. Их если и одергивают, когда особо расшумятся, то без родительского законного остервенения, а с интонацией усталой просьбы. Им обычно позволяют набить свой рюкзачок игрушками, хотя в маленьких съемных комнатах не хватает места для необходимого. И ненужное, оттого что слишком нарядное, платье тоже позволяют забрать.
Потому что когда ребенок с надеждой спрашивает: «Можно?» — обнимая нелепого медведя больше себя ростом или напялив поверх свитера и зимних штанов платье новогодней елки, то погасить эту радость не поворачивается выжженное потерями родительское нутро.
…Пришла пара с младенцем на руках. Женщина в сером свитере и лыжных штанах, бледная с сероватым оттенком всего, что есть в облике — цветом лица, волос, глаз. Ее муж, очень высокий, ссутулившийся, с ускользающими, некрасивыми чертами лица. Женщина тут же пошла в детский отдел, смущенно пояснив: «У меня еще трое детей дома остались, мне надо всех одеть». А ее муж сел на диван, развернул конверт с младенцем. Из кокона одежек на меня светлым бессмысленным взором смотрел неземной красоты младенец. Я не могла оторваться от ее личика, будто написанного итальянским художником эпохи кватроченто. Неопределенность черт, младенческая размытость облика с просвечивающими сквозь молочную кожу голубоватыми жилками у носика и неожиданно прямым и почти строгим взглядом, придавала лицу завершенность канона. Мужчина, развязывая жесткими пальцами завязочки шапки, прошептал: «Это Софийка».
Софийка светилась изнутри своих белых одежд. Если бы я была хоть немного сентиментальна, то сравнение с ангелом было бы здесь единственно уместным. Папа остался сидеть и сторожить свое чудо. Он кормил ее из бутылочки смесью, вытирал взмокший лобик. Все, кто был на складе, притихли. Я ушла за стеллажи разбирать очередную порцию вещей. В какой-то момент меня пальцем позвала к себе Катя: «Посмотри!» Мужчина укачивал Софийку и пел. Что-то незамысловатое, на украинском. И вот тут-то меня пробило на слезы…