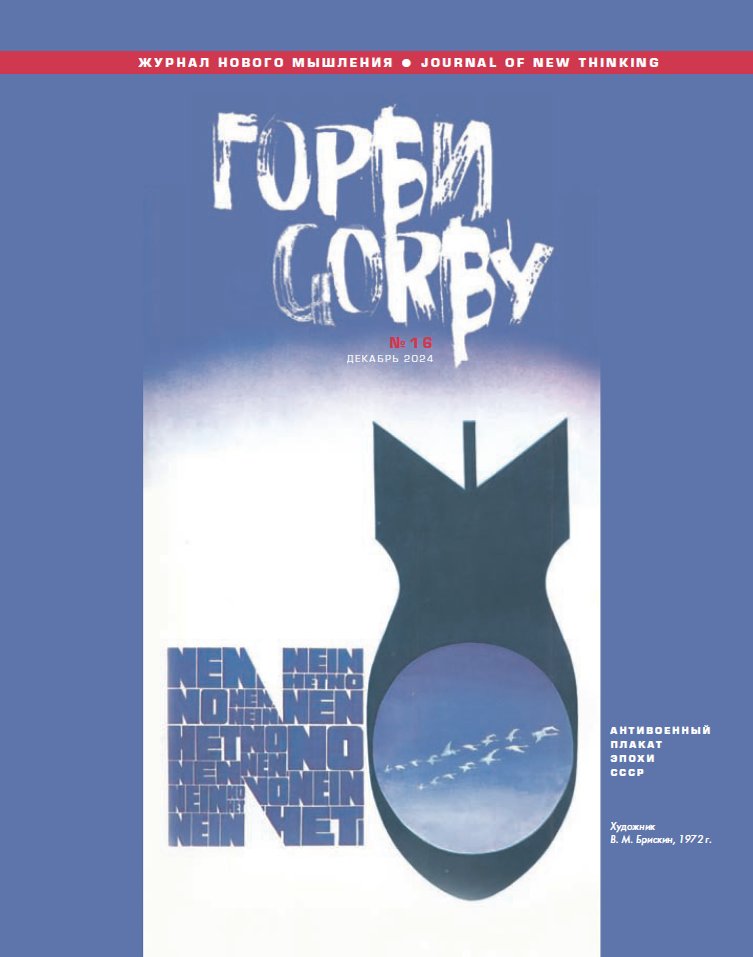Иллюстрация: Петр Саруханов
К этой мысли невозможно привыкнуть — уже год, с декабря 2023-го, нет с нами нашего друга и автора, публициста и философа Саши, Александра Вадимовича Рубцова.
Вот уж у кого нет лишних фраз, союзов, предлогов и запятых. В его немалых по размеру текстах нечего сокращать, чтобы вогнать в годный для газеты и журнала объем. Каждая, без преувеличения, фраза — социальный диагноз и политический приговор. В остроумной, сжатой, отполированной форме.
Мы предлагаем вниманию читателей статью Александра Рубцова «Год открытого перелома», опубликованную в «Новой газете» 24 декабря 2021 года, ровно за два месяца до начала СВО. Она во многом пророческая, но, самое главное, оценивающая те факторы и то состояние страны, которые привели к 24 февраля 2022-го.
Сколь точно звучали слова: «Сейчас говорить о будущем вообще рискованно: можно либо накаркать, либо сглазить».
В текущей политике все отчетливее видна нелинейность процесса. Будто регулярные сезонные колебания погоды суммируются в изменении климата, и не только в России. И это не предел наблюдений. В природе климат тоже меняется не сам по себе, но вследствие общих, иногда тектонических, сдвигов. То же в политике. В историю какой глубины и размерности мы, извините, сейчас вляпались? Есть такое понятие — «размер события». Понимание масштаба изменений избавляет от въевшихся иллюзий и подсказывает варианты.
В резонансе двух локдаунов, вирусного и политического, пандемия становится идеальным и, по сути, безразмерным поводом поставить любую общественную жизнь «на паузу». Для одних это лишь предельная опция, но другие сразу и радостно стреножат все подряд. Вынужденные ограничения в деловой и социальной сфере копируются политикой с запасом и впрок, с выборочным тестированием «пределов беспредела». Оборонительные порядки власти тем более ощетиниваются, чем слабее реальные угрозы оппозиции, близкой к анабиозу. «Все здесь замерло…», причем неясно, насколько всерьез и где рассвет.
Меняются сами реакции и сценарии. Поначалу казалось, что коронавирусы слоями ползают по перилам и дверным ручкам, однако это был быстрый страх, ближе к испугу.
Город, вдруг опустевший, как в «Земляничной поляне» Бергмана, потрясал, но вселял надежду, что в этом вакууме зараза сама сдохнет, и живая жизнь вернется, обогащенная яркими впечатлениями и воспоминаниями.

Кадр из фильма «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана
О том, что история может затянуться или вовсе стать хронической, говорили, но как бы на всякий случай и скорее философически. Сейчас подобные оговорки тянут на прозрения.
Строго говоря, этой философии уже более полувека. Биоэтика давно обсуждала риски немытой пробирки, слияния биокультур в уборке лабораторий или в самом опыте. Но перспектива глобального мора воспринималась скорее как концепт и образ. Когда-то и с «Римским клубом» примиряло то, что реальные последствия экологической безответственности ударят уж точно не при жизни нынешних поколений, не в Кунцево и не на Рублевке. Но сейчас даже без выпиливания Сибири, экологически сравнимой с лесами Амазонки, достаточно деградации запада Москвы и Московской области — нашей «Подмосковной Швейцарии». Ландшафт лысеет и каменеет, заметно меняется видовой состав букашек и птичек, а потом Росгидромет сообщает, что завтра опять потоп, а ветер будет срывать крыши и валить деревья на машины.
Вирус тоже будто проходит уровни бесконечной компьютерной игры. Уже ясно, что тут не обойдется, как когда-то с затмевавшей ужасы всех войн чумой — с «Черной смертью», или «Испанкой». Коллективный иммунитет вырабатывается скорее к обещаниям политиков и примкнувших ученых замешать вакцину, всех уколоть и первыми усмирить вирус, конечно же, в России, с ее наукой, полуубитой косным администрированием. Важно победить и болезнь в жизни, и Америку в телевизоре, но уже видно, как искусственная вентиляция мозга начинает подрывать веру и отношения. Рецепт сохранения фигуры от Плисецкой: не надо жрать. Рецепт сохранения доверия общества:
не надо врать, а тем более рисовать «социологию» доверия — скепсис растет по экспоненте.
Когда десять лет назад протест оживился и двинулся из столиц в города-миллионники, тут же кинулись проверять, хватит ли ресурсов ТВ, чтобы удержать ситуацию. Ответ обнадежил, но только вкупе с политической фортификацией и машинерией с заграждениями и автозаками. Мероприятия оппозиции все более стали походить на массовые прогулки заключенных и разрешенные свидания с лидерами. Плюс запретительное нормотворчество и отряды «космонавтов», нужные как для устрашения оппозиции, так и для успокоения самого начальства. Массы силовиков и демонстрантов хотя бы зрительно должны быть соизмеримы.
Все это ничуть не умаляет героизма бойцов политического фронта и значения их миссии, однако борьба против них все чаще напоминает не борьбу с внешним врагом, а внутреннюю борьбу с коллегами за бюджет. Ток-шоу киснут в отсутствие серьезных оппонентов. Надрыв на пустом месте разжигает истерики низовой пропаганды и сетевой троллинг, счастливо сочетающий крикливость с трусостью анонима. Только кажется, что все это отделено от респектабельной эстетики официоза; для многих именно эта среда сращивается с образом правления. А потом вдруг начинают считать шаги от любви до ненависти…
Оппозиция скована, в том числе обстоятельствами. На пиках эпидемий многотысячные митинги по умолчанию кажутся не совсем уместными, хотя демонстрация в 600 тысяч человек (как когда-то на Манежной), расположеных в шахматном порядке на социальной дистанции в 1,5 метра друг от друга, стала бы незабываемым форматом. Сообщество несогласных вообще складывается из тысяч разнокалиберных организаций и миллионов индивидов, встречающихся в так называемых мгновенных сборках. Но сейчас эта масса фрагментирована и почти рассеяна, а организации легко клеймятся иноагентами с переходом в нежелательные.
Для оппозиции это вопрос пределов необходимой самообороны: «Мы теряем друзей своих поутру вдруг, / Не умея за них заступиться». Когда-то этот бачуринский хит был символом мечтаний постсоветской интеллигенции: «Мы живем в ожидании вишен, / В ожидании лета живем, / А за то, что одной лишь надеждою дышим, / Пускай нас осудят потом (2 раза)». Сейчас за такие оценки можно с гарантией схлопотать «трансляцию выученной беспомощности», однако к тому же ведет и сама готовность не перегружать совесть и мозг реалиями демобилизации. Результат тот же: «Мы плывем и платочками машем».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
«Куда ж нам плыть?»
В разгар минских событий я услышал от одного очень близкого мне молодого социолога: если и здесь сорвется, разочарование будет страшным. Тема не развита, видимо, потому что уроки слишком болезненны.
В самом деле, чего там еще не хватало? Все было так убедительно проиграно, что вождь и свита темы выборов потом вообще не касались, ни с отрицанием провала, ни с утверждением победы. Сюжет выпал из повестки, как не был. Его компенсировали всплеском экзальтированной озабоченности судьбами страны и мира. Шедевр этого опереточного, самоубийственного пиара — боевая вылазка Лукашенко под камеры, с АКМ и запасными рожками наперевес, с сыном Колей в доспехах как символом сакральной жертвы.
Протест, наоборот, остался в памяти полным достоинства, крайне собранным и даже жертвенным. Где еще мы видели такое противостояние отморозкам, упивающимся зверствами в полной неподсудности?
Россия сделала свой выбор: по-отечески помогла братскому народу. «Собирание земель» в конфликте с населением — эта нейтронная бомба заставляет соседей думать и о своих перспективах. Результат ожидаемый, но с новой ясностью открывающий отчаянную решимость удерживать власть «по жизненным показаниям» и любыми средствами вплоть до. Пусть небо упадет на землю, а там хоть потоп. Для других это, наоборот, удар по надеждам и перспективам с пробоинами даже не в речи, а в самом политическом языке. Против дискурс-анализа возражать трудно.
Все это рисует другие графики процесса, чем те, к которым мы привыкли. До последнего момента многие продвинутые люди считали Лукашенко в целом пристойным деятелем, старомодным в управлении, но при этом изящно балансирующим между Россией и Европой. Можно сползать в диктатуру терпеливо и медленно — а можно долго косить под светлый образ, лишь в последний момент срываясь в открытое массовое насилие. В свое время Назарбаев котировался в президенты — реформаторы СССР близко к Горбачеву, и именно при нем Казахстан начинался как образец политической цивилизации на постсоветском пространстве. Однако когда на президентских выборах 1998 года реальным кандидатом выступил премьер РК Акежан Кажегельдин, почти свободная страна с независимым бизнесом и частными СМИ, включая ТВ, сдулась за год. Так в политике работают риски с неприемлемым ущербом.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Здесь важна сама логика процесса. Чтобы ее понять, необходимо сменить оптику политического зрения. Мы приучены идти в анализе от генезиса, через «развитие», из прошлого в настоящее и будущее. Это соответствует привычной моторике часов и «нормальной» психофизике восприятия. Количество здесь постепенно переходит в качество. Однако это не догма. Известно, что картинка в опыте с переворачивающими изображение очками со временем становится для мозга нормой. Если такие очки потом снять, мир опять какое-то время будет казаться перевернутым.
Эвристика политического анализа может менять не только верх и низ, но и будущее с прошлым. Обратный взгляд из настоящего в прошлое часто дает совсем иное видение процесса. Из точки распада империи бывает видно, что ее сборка опиралась, мягко говоря, не совсем на те скрепы, которые привычно считаются главными, но, как выясняется, в решающий момент мало что скрепляют. Филиация русских идей от Третьего Рима, триады Уварова, «всемирной отзывчивости» и пр. в начале Первой мировой войны не обеспечила патриотический подъем, сравнимый с другими странами коалиции. Ураганный советский атеизм обратным ходом иначе высвечивает и свойства нашей религии — того, что по установкам Тойнби считается опорой цивилизаций, в том числе русской православной. Все это помогает понять, почему страна «пошла за Лениным и Троцким, а не за Достоевским и Соловьевым» (c).
То же с современностью. Оказывается, что известные качества даже сравнительно травоядных режимов могут формироваться много раньше, а затем лишь реализуются количественно, иногда скачкообразно и безразмерно. Реверсивная оптика дает новые оценки и прогнозы: перелом, случившийся ранее, но смягчавший хромоту системы, вдруг делается «открытым» по жизни и аналитически.
Здесь важно понять, что речь идет не просто о графиках реализации политики, но о совсем других координатах и измерениях процесса, об особой векторности истории. И такой подход — далеко не сегодняшнее откровение. «Что будет, то давно в былом» (Пастернак). Шлегель назвал историка «пророком, предсказывающим назад». Но даже классическому афоризму Маркса: «Анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны» — редко следуют, хотя все здесь очень и очень жизненно. Сначала врачи пишут диагноз на основе анамнеза — а затем патанатом по итогам вскрытия обнаруживает иную картину течения болезни, а то и совсем другую причину ухода пациента.
Более того, здесь мы соприкасаемся с заветами особой философии, связанной, в частности, с метафизикой прямой и обратной перспективы (Эрвин Панофский, о. Флоренский). Главное откровение состоит здесь в том, что обратная перспектива византийской и русской иконы возникает не от неспособности «грамотно» свести линии построения в точку схода, но выражает особое восприятие мира, который не сужается вдали, но раздается, простирается. Это не просто графика, а именно миро-воззрение и миро-чувствие — трансценденция, другая форма открытости.
Для политической истории важно, что такая обратная оптика возможна не только в пространстве изображений, но и в аналогичном видении времени. Удивителен этот изоморфизм — структурное подобие композиции «кадров» в картине и кино-картине, в статике и динамике. Оказывается, внутри пространства истории можно не только сидеть «по ходу поезда», но также «ходить» взад и вперед, разворачиваясь в ракурсах линейной либо обратной перспективы. Такие возможности очень помогают построению сценариев и прогнозов, пониманию самой направленности общего движения интересующей нас истории.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
В наше время все это кажется немодным. Но, похоже, постмодерн несколько переборщил с отрицанием прогресса, стрелы времени, бинарных оппозиций высшего и низшего и пр. Подвеска Ауди все же превосходит колеса колесниц, а средняя баскетбольная команда РФ легко вынесет легендарную сборную СССР имени Белова или старую All Stars. Просто больно себе представить. То же с футболом или гимнастикой. И с политикой. Взгляд на историю в обычной линейной перспективе, из прошлого в настоящее и будущее, чаще акцентирует именно периодичность возвратов к несвободе. Отсюда идеи о «константах» и т.п. Однако взгляд назад даже из нынешней пусть не самой либеральной ситуации показывает кумулятивные, хотя порой и очень скромные накопления свободы. Достаточно переживаемые нами нынешние реалии мысленно поместить последовательно в эпохи брежневского застоя, сталинского тоталитаризма, троцкистско-ленинского большевизма… Что-то может срезонировать, но что-то все же явно не влезет.
В историческом движении постепенно накапливается нечто необратимое, что уже не вытравить, по крайней мере, в наиболее креативных и ответственных сегментах общества.
Наличие этого вектора, видимо, и заставляет и обывателей, и профессионалов называть импульсы несвободы реакцией. Можно, конечно, считать, что именно сейчас и именно в России подобная суммарная направленность колебаний общего политического климата отменяется, но это надо доказывать, что непросто. Перелом все же не ампутация. И вряд ли это будет большим комплиментом для российской политической культуры и цивилизации.
В этом весь парадокс. Как ни странно, именно привычная оптика генезиса и «развития» может располагать к особой форме забвения, когда прошлое идеализируют, чтобы не думать о беспросветном будущем (у Зигмунта Баумана это называется ретротопия). Сейчас говорить о будущем вообще рискованно: можно либо накаркать, либо сглазить. И кажется, нынешний год совсем утвердился в очень традиционной ориентации системы. К тому же здесь особо популярна нарциссическая уловка, когда любят не историю в себе, а себя в истории. Саму природу современности здесь ищут почти исключительно в прошлом, в истоках и «генах», в наполняющей родную историю травматике бедствий и героике свершений. Замесы почвы и крови, нашествия и борьба с супостатами за жизнь, еду и имущество, за собственность и независимость. Подвиги экспансии и миссии, освоение территорий и собирание земель, жертвенное братское заступничество (мы за ценой не постоим не только за Родину)… Черты светлого настоящего и желаемого будущего пытаются разглядеть в «родовых» взаимовлияниях, в истории обретения идентичности и суверенности. А еще лучше — в якобы врожденном характере и прочих свойствах нашей цивилизационной «натуры». Возникает полное впечатление, будто даже всемирную отзывчивость мы впитали с молоком матери-истории, но теперь и впитывать ничего не надо: все самое лучшее уже есть у нас в генах, особенно в «лишних». Это якобы исключает вопрос, кто здесь матери-истории более ценен. Однако высоты былых достижений никогда не срабатывают как индульгенция будущих низостей и алиби срывов.
Обычный локдаун — отнюдь не бесплатное мероприятие. Поэтому он так сложен в принятии решения и всегда дозирован. Политический локдаун тоже не дармовое действие. Он дорого обходится обществу — экономике, креативу, индивидуальной и коллективной психике, общественной морали. Его побочные эффекты более отложены, но и проникают глубже, подчас «временно необратимы». Особенно чреват резонанс локдаунов (с чего мы как раз и начинали). Тем более если учесть, что тормозящий, усыпляющий эффект, близкий к искусственной коме, сильнее задевает именно ресурсные социумы и сырьевые экономики, зависящие от потребления керосина и перераспределения сырьевой ренты.
В большой перспективе все это — темы цивилизационной эсхатологии, исследования процессов и обстоятельств если не гибели цивилизаций, то их перехода в иные качества.
Рано или поздно, но приходит время, когда селфи сменяются документальной хроникой и карикатурами, а учебник истории переписывают люди, свободные в оценках, и хорошо, если не слишком обозленные.
При этом бывает, что именно победный угар выдает нервозные предощущения: что-то над городом встало, в воздухе порой пахнет пусть не грозой, но озоном, причем не всегда понятно, откуда именно. В таких случаях основным участникам процесса приходится выбирать между конфронтацией, борьбой на поражение и мечтами о полной победе — и общим качеством жизни в стране в отведенное время. У нас можно до бесконечности цитировать мудрого Искандера: «В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков».