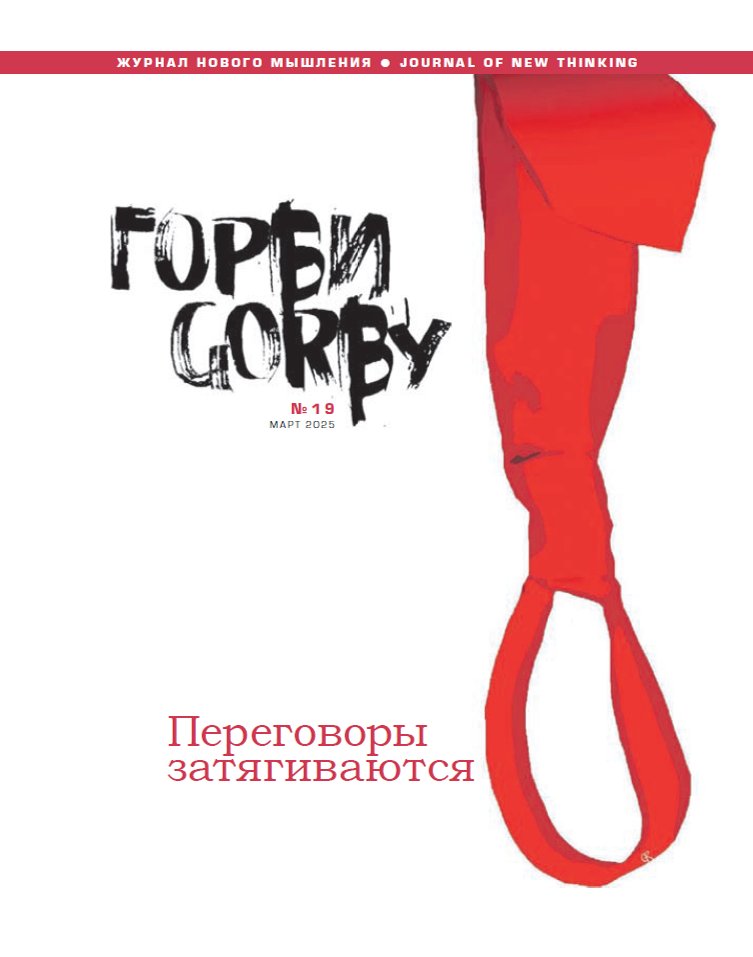Акции протеста в преддверии Всемирного экономического форума в Швейцарии. Фото: EPA
Либеральный капитализм конца XIX — начала ХХ века создал условия для бурного развития технологических инноваций, а расширение мировой торговли способствовало повышению темпов экономического роста. Однако эта экономическая динамика сопровождалась усилением неравенства и ростом социальной напряженности на фоне отсутствия механизмов ограничения интересов элит. Результат — череда военных конфликтов, включая Первую мировую войну, которая привела к формированию общественно-политических моделей, альтернативных либеральной демократии и свободной рыночной экономике.
Наиболее яркими представителями этих альтернатив стали, с одной стороны, большевистская «диктатура пролетариата» и плановая экономика в СССР, а с другой стороны — фашистские диктатуры в Италии и Германии. Но только в сочетании с Великой депрессией 1929–1933 годов все эти события привели к осознанию элитами развитых стран необходимости самоограничения своих интересов. Именно это в итоге сделало возможной трансформацию тогдашнего либерального (или «дикого») капитализма в «организованный капитализм», ставший основой для «государства всеобщего благосостояния» середины ХХ века.
Блеск и нищета глобализации
Однако любая модель организации экономики и общества имеет свой жизненный цикл. К концу 1960-х «организованный капитализм», обеспечивший значимый прогресс в развитии технологий и повышении уровня жизни, столкнулся с существенными проблемами, которые были обусловлены широким вмешательством государства в экономику. Следствием этого стали кризисные 1970-е с их феноменом стагфляции.
Начавшаяся с 1980-х годов (сначала в США и Великобритании, а затем в других странах) либерализация экономики сопровождалась дерегулированием финансовой сферы, снижением торговых барьеров и открытием рынков развивающихся стран для иностранных инвестиций.
В сочетании с развитием информационных технологий и снижением транспортных издержек все эти процессы стали основой для новой волны глобализации, которая охватила все страны мира и до конца 2000-х годов обеспечивала высокие темпы экономического роста.
Признанным следствием глобализации стал значимый рост доходов сотен миллионов людей в крупных развивающихся странах.
Этот эффект стал возможен благодаря рентам, возникавшим в глобальных цепочках создания стоимости — когда за счет выноса производств из развитых стран в развивающиеся и эффективного разделения труда при контроле качества производства и управлении бизнес-процессами со стороны специалистов из развитых стран происходило общее существенное снижение издержек.
Однако на стороне развитых стран, и прежде всего в США, распределение этих рент было очень неравномерным. Как было показано в работах Бранко Милановича, на фоне роста среднего класса в крупных развивающихся странах (таких как Китай, Индия и Бразилия) и сокращения за счет этого глобального неравенства в развитых странах большая часть рент глобализации доставалась наиболее состоятельному 1% населения — так как представители именно этого слоя (в лице собственников и топ-менеджеров глобальных компаний со штаб-квартирами в Нью-Йорке или Лондоне) осуществляли контроль и управление распределенными цепочками создания стоимости.
Характерно, что связанный с этим рост неравенства касался Европы в меньшей степени, поскольку для ЕС все эти годы был характерен более высокий уровень прогрессивного налогообложения и перераспределения доходов. Все эти факторы создали предпосылки для роста внутреннего социально-политического напряжения в развитых странах, которое стало очевидным в течение последнего десятилетия.
Одновременно либерализация рынков и глобализация экономики привели к новому витку геополитических напряжений. После распада СССР в роли единственной «сверхдержавы» на мировой арене стали выступать США. При этом, продвигая через такие структуры, как ВТО, ГАТТ или МВФ «мировой порядок», Соединенные Штаты сами далеко не всегда соблюдали декларированные ими правила и часто были склонны к применению силы в международных отношениях. Это стало основанием для нарастания антиамериканских настроений в мире. А на фоне роста экономического потенциала развивающихся стран у элит этих государств возник запрос на «право голоса» в выработке глобальных решений. Важно учитывать, что эти элиты, также получавшие значимые ренты от процессов глобализации и стремившиеся стать членами «глобального элитного клуба», долгое время выступали в роли союзников США в рамках проводимой ими политики. Однако теперь, чувствуя в массах запрос на перемены, они стали проводить все более независимую политику.
Кризисы без выздоровления
Первым серьезным триггером для изменения глобального миропорядка, сложившегося в конце 1980-х, стал финансовый кризис 2008–2009 годов. Его причиной стало масштабное дерегулирование финансовых рынков, которое объективно вело к тому, что банки и инвестиционные компании брали на себя все большие риски. И рано или поздно накопление таких рисков должно было вылиться в полноценный кризис (здесь кажутся очевидными аналогии с Великой депрессией 1929–1933 годов).
Однако, в отличие от Великой депрессии, этот кризис не стал поводом для пересмотра и изменения сложившейся экономической модели. Изначально он подтолкнул развитые и развивающиеся страны к кооперации. Именно после него активизировалась деятельность G20 — куда, в отличие от G7 (существующей с середины 1970-х как неформальный клуб крупных развитых стран), входят лидеры ведущих развивающихся стран.

Одиночный пикет около Нью-Йорскской фондовой биржи, 2008 год. Фото: Reuters / Shannon Stapleton
Эти новые формы координации можно было бы воспринимать как начало движения к «миру всеобщего благосостояния» в терминах экономиста Виктора Полтеровича по аналогии с «государством всеобщего благоденствия». Однако в реальности активная кооперация в этот период свелась к ограничению для крупных компаний возможностей ухода от налогов через офшоры. Практика такого рода получила массовое распространение в 1990–2000-е годы, но она стала прямо противоречить текущим интересам политических элит в условиях, когда они принимали решения о выделении гигантских объемов финансовых средств для стимулирования спроса в момент кризиса, и реципиентом этой помощи в значительной степени оказался крупный бизнес.
Относительно быстрое ослабление эффектов кризиса, который был залит деньгами, вновь снизило стимулы к кооперации. В этом отношении характерным является отсутствие реального прогресса в коллективных действиях по предотвращению глобального потепления: США (с их наибольшими выбросами парниковых газов) подписали, но так и не ратифицировали Киотский протокол, а Парижский протокол, принятый в 2015 году взамен Киотского, остается без практических механизмов реализации. При этом более успешное прохождение кризиса 2008–2009 годов экономиками крупных развивающихся стран, и прежде всего КНР, привело к новому нарастанию геополитической напряженности — американские элиты стали рассматривать Китай в качестве ключевого конкурента и военно-политического противника США.
Движение через катастрофы
Следующий глобальный кризис, пандемия ковида в 2020 году, не изменил эту ситуацию. Конечно, нельзя сказать, что это вопрос экологии, но мне кажется, что
пандемия — иллюстрация того, как природа начинает бороться с человеком.
Человечество слишком разрослось и своей активностью наносит серьезный вред природе в целом. А природа на это реагирует либо тайфунами, наводнениями, ураганами и землетрясениями, а также глобальным потеплением, либо появлением новых вирусов. Так или иначе, пандемия породила большие проблемы для всех стран, и бороться с ней можно было только общими усилиями. Понятно, что на какой-то стадии нужны были карантины, но основным был вопрос о вакцинах. А вакцины развитые страны сделали в первую очередь для себя, что у стран Глобального Юга породило большие вопросы о соотношении деклараций и реальной практики. При этом экономический кризис, порожденный ковидом, снова залили деньгами, но финансовые возможности для этого у богатых и бедных стран существенно различались.

Вакцинация от Covid-19 в Зимбабве. Фото: AP Photo_Tsvangirayi Mukwazhi
Уже в 2021 году, и я писал об этом, стало очевидно: история показывает, что убедить элиты в необходимости сплоченности, кооперации и ограничения собственных притязаний может только угроза масштабных потерь для них самих. Это означало неизбежное появление серии политических и военных конфликтов, а также технологических, экологических и эпидемиологических катастроф. Только после могли бы возникнуть предпосылки для формирования институтов глобального «организованного капитализма».
События последних трех лет, включая военные действия России против Украины и атаку ХАМАС на Израиль с последующей операцией армии Израиля в секторе Газа, к сожалению, могут служить подтверждением этого тезиса. Реакцией на действия России в 2022 году стала консолидация Запада, что выразилось в масштабных международных санкциях, введенных против России. Но одновременно 2022 год сделал очевидным раскол между Западом и странами Глобального Юга. Как отмечала в мае 2023 года Фиона Хилл, работавшая советником Трампа по России во время его первого президентского срока, развитые страны недооценили возросшую роль Глобального Юга в мировой торговле и глобальной финансовой системе. В результате, когда к санкциям, введенным США и ЕС, по факту не присоединилось большинство стран Глобального Юга, их эффективность оказалась очень ограниченной.
Взгляд из Катара
За последние двадцать лет мир и в самом деле стал многополярным, но не в том смысле, который вкладывается в это понятие в России, где о многополярности в основном говорят в терминах холодной войны и противостояния СССР и США. В лучшем же случае эту многополярность видят как «концерт наций» начала девятнадцатого века, когда после победы над Наполеоном «великие державы» поделили между собой мир. Сегодня, конечно, есть ведущие державы: США, Китай, Евросоюз. У них есть своя повестка, которую они стараются продвигать и даже навязывать (отмечу, что я не отношу к членам этого «клуба» Россию, поскольку она, на мой взгляд, не предлагает миру какой-либо внятной повестки и мало что может дать миру, кроме экспорта своих сырьевых ресурсов).
Однако, продвигая свою повестку, ведущие страны не учитывают того, что глобализация последних десятилетий объективно привела к изменению роли стран «второго эшелона» из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые стали самостоятельными игроками. У них не только вырос экономический потенциал, но также принципиально улучшился человеческий капитал и качество экспертизы, появилась способность достаточно внятно и аргументировано формулировать и продвигать свои интересы. Это один из результатов глобализации — когда с открытием рынков развивающиеся страны импортировали не только оборудование и технологии, но также получали новые навыки и компетенции за счет того, что десятки тысяч специалистов из этих стран получили образование и степени PhD в ведущих университетах в США и Европе.
В этом отношении для меня была показательна конференция, которая проходила в Дохе в октябре 2024 года. Она была посвящена Украине, и ее организаторы ставили своей целью понять возможные сценарии развития событий в Европе и факторы, которые влияют на эти сценарии. Там были широко представлены арабские страны, были специалисты из Индии, Ирана, Аргентины, Судана. В большинстве случаев они имели хорошее западное образование и демонстрировали высокий уровень квалификации и способность говорить с западными экспертами на их языке, что отсекало возможность задавить их авторитетом и навязать свою повестку.
Вот как на этой конференции один из представителей Катара объяснял отношение своей страны к конфликту в Украине. Его базовая позиция сводилась к тому, что
Катар против войны, у них есть свое мнение, в целом совпадающее с западным, кто в этом виноват, но они выступают в роли посредников с целью помочь достижению мира и поэтому не оказывают формальной поддержки ни одной из сторон.
При этом он подчеркивал, что для них это — конфликт европейцев с европейцами, и, к сожалению, это лишь одна из многих войн, с которыми им приходится сталкиваться. Уже многие годы продолжается война в Йемене, больше десяти лет шла война в Сирии, сейчас идет война в Судане, идет конфликт ХАМАС с Израилем, и все это рядом с ними. При этом для них в целом было удивительно, что европейцы, столько лет объяснявшие всем, как надо правильно жить, не могут мирно разобраться друг с другом. И Катар совместно с ОАЭ и Саудовской Аравией в итоге решил взять на себя посреднические функции, поскольку эта война наносит заметный ущерб мировой экономике, что сказывается и на странах Персидского залива. То есть они руководствуются не только гуманитарными, но и чисто прагматическими соображениями. Еще один важный момент — Россия для этих стран стоит в том же ряду, что и США с Европой и другими развитыми странами.

Сергей Лавров в Дохе, 2024 год. Фото: пресс-службы правительства РФ
Очевидно, что у таких стран «второго эшелона» есть свои интересы, и они различаются. Но также есть площадки межрегионального диалога с попытками согласования интересов и выработки общей повестки. Мне кажется, что у ведущих стран пока нет понимания, что в мире уже есть десятки игроков, с интересами которых придется считаться. К этому, с моей точки зрения, ни США, ни Европа, ни Китай, ни Россия сегодня не готовы.
Однако то посредничество, в котором принимают сейчас участие Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, может стать шагом к выработке предложений по поводу дизайна другого мирового порядка, который возникнет не по проекту США, Евросоюза или Китая и будет более справедливым в представлении третьих стран, у которых на сегодняшний день уже появились эксперты, достаточно адекватно понимающие, что происходит, и способные объяснить происходящее в терминах современной политической и экономической науки.
Выход пока не просматривается
Пока нельзя сказать, насколько этот процесс будет долгим и тяжелым. У этих стран тоже разные интересы, и им придется активно договариваться между собой и по политическим, и по экономическим аспектам взаимодействий. Политика и экономика в данном вопросе — тесно взаимосвязанные вещи. На той же конференции в Дохе, не в выступлениях спикеров, а в кулуарном общении, было видно, что тематика деколонизации и преодоления колониального наследия реально интересует страны Глобального Юга. А это — политический вопрос, который будет требовать экономических решений.
Запад, в особенности Евросоюз, до недавнего времени активно продвигал «зеленую» повестку. И это правильно: с точки зрения глобальных перспектив этим необходимо заниматься, поскольку климат действительно ухудшается. Но особенность климатической повестки в том, что эту проблему невозможно решить на национальном уровне. Это можно делать только на международном уровне на основе кооперации между разными странами.
Но тогда автоматически встает вопрос о том, что популярные сейчас в Европе аргументы про «нулевой рост» (в логике: мы будем беречь природу, охранять экологию, поэтому не будем больше расти) годятся не для всех. Можно не расти на фоне европейских доходов на душу населения. Однако развитые страны уже успешно использовали ресурсы, связанные с «грязными» технологиями, и могут теперь позволить себе не расти. А развивающиеся страны не могут себе это позволить, и поэтому отказ от «грязных технологий» должен быть связан со значимыми компенсациями для этих стран.
Иными словами,
экономические противоречия между развитыми странами Запада и развивающимися странами Глобального Юга существуют и никуда не исчезают.

Дональд Трамп. Фото: AP / TASS
При всей значимой роли США в мировой экономике как поставщика новых технологий и финансовых ресурсов глобализация последних 40 лет привела к тому, что все страны стали взаимозависимыми. При этом в экономике большую роль играют ожидания — от них зависят решения фирм и домохозяйств об инвестициях, а также о распределении доходов между потреблением и накоплением. И одним из следствий посылаемых Трампом сигналов о сломе миропорядка, который в течение десятилетий выстраивался самими США, может стать перелом в ожиданиях экономических агентов. А он может привести к новому глобальному кризису. Я бы сказал, что политика, декларированная Трампом, представляет собой своего рода финальный аккорд в рамках завершения цикла либерального капитализма, начавшегося во времена Рейгана и Тэтчер. При этом даже на уровне конкретных мер, уже озвученных Трампом, напрашиваются аналогии с политикой США в конце 1920-х, которая закончилась Великой депрессией. Риски новых военно-политических конфликтов на этом фоне, скорее всего, тоже только умножатся.
Сами по себе будущие катаклизмы не дадут отрезвляющего и оздоровляющего эффекта. Рост влияния правых популистов при поддержке со стороны социальных групп, ощущающих себя проигравшими от глобализации, явился следствием девальвации либеральных идей. Но проблема заключается в том, что в своем противостоянии правым популистам либеральный лагерь до сих пор фокусировался на политике идентичности с защитой прав различных меньшинств, фактически противопоставляя их другим социальным группам, вместо поиска и публичного продвижения идей и решений, которые устраняли бы первичные причины возросшего неравенства возможностей.
Немаловажное значение имеет еще один фактор: как это всегда было в переломные моменты истории, огромную роль будут играть личности лидеров.
Компромиссы станут возможны, если на политическую арену придут новые фигуры, способные вести диалог друг с другом и при необходимости противостоять частным интересам своих национальных элит.
Сейчас есть ощущение дефицита таких личностей. Но возможно, что их появление более вероятно именно в странах Глобального Юга.
В человеческой истории многие великие цивилизации, которые на определенной стадии не смогли разрешить свои внутренние конфликты и противоречия, потерпели крах. Тем не менее история продолжалась, поскольку рядом существовали другие общества, оказавшиеся более конкурентоспособными. Радикальное отличие сегодняшнего мира заключается в том, что в ходе процессов глобализации последних десятилетий он стал взаимосвязанным и единым, и, если при развитии катастрофических сценариев лидеры ведущих стран будут неспособны договориться друг с другом, мы можем действительно прийти к концу истории в плохом смысле, когда от сегодняшнего миропорядка останутся лишь глобальные руины, а человечество окажется отброшенным назад на столетия.
Андрей Яковлев