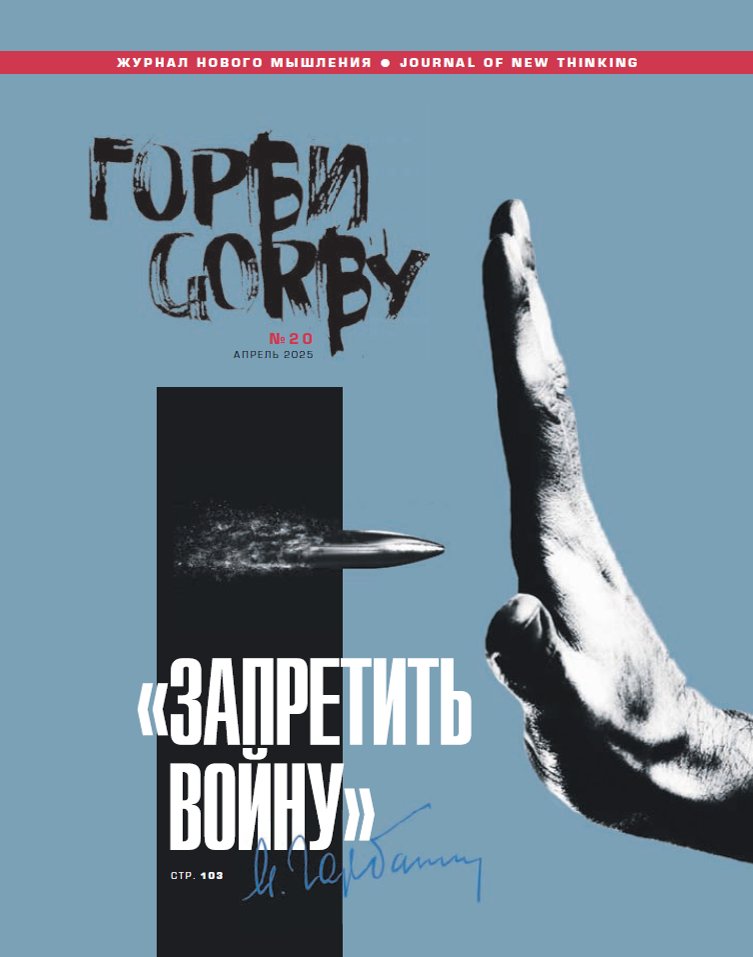Традиционные катания на тазах выпускников МГТУ им. Баумана. Фото: А. Белкин / Бизнес Online / ТАСС
(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Мало что так отражает происходящие в экономике изменения, как рынок труда. Потому что он для людей и состоит из людей. Многие тенденции, например, дефицит рабочей силы и низкая безработица, известны всем. Но что стоит за тем или иным феноменом? О тайной жизни рынка труда по просьбе «Горби» рассказал один из самых известных специалистов в области экономики труда Владимир Гимпельсон.
— Российский рынок труда прошел через несколько шоков — военная мобилизация, релокация приблизительно миллиона человек, милитаризация экономики с изменением ее структуры, перегрев зарплат, резкий всплеск антимиграционной политики. Результат — формально низкая безработица (в среднем за 2024 год 2,5%) и дефицит рабочей силы, который лишь усугубил длинный тренд выбытия трудоспособного населения ввиду его старения и выхода на рынок труда малочисленных поколений. Есть еще феномен «эскалации вакансий» (термин Ростислава Капелюшникова), который перегревает рынок зарплат, тем не менее теперь, кажется, отстающих от инфляции. Правильно я описываю ситуацию? Что в этой картине нуждается в коррекции и дополнении?
— Констатации абсолютно верные, но это очень общая картина. Надо сразу признать, что на самом деле мы знаем — именно знаем — не так много: статистики очень мало, она ненадежная и во многом смещенная в силу природы тех данных, что доступны. Поэтому мы многое додумываем и рассматриваем как гипотезы.
Например, «эскалация вакансий», о которой столько говорится. Что она отражает? Реальное приращение спроса на труд в виде дополнительно создаваемых рабочих мест? Или естественный отклик работодателей на ускорение оборота рабочей силы? Оборот растет как реакция на неравномерный рост заработной платы. А каков вклад паники в эту эскалацию? Мы хорошо знаем, что, как только начинаются разговоры о наступающем кризисе, простой человек бежит в магазин и закупается товарами первой необходимости. Но и фирмы ведут себя точно так же, когда о дефиците рабочей силы говорят из каждого утюга. По-видимому, все три фактора могут иметь место. И если рост реальных зарплат остановится (а он очевидно замедляется), то через какое-то время мы можем увидеть обратную ситуацию — сброс вакансий и избавление от избыточно нанятых работников.
Рынок труда, как он сложился и работал с начала 1990-х, всегда адаптировался через зарплату и стремился к минимизации безработицы.

Владимир Гимпельсон. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Зарплаты могли быть небольшими, но рабочие места за работниками сохранялись. И уже к ковиду он подошел с очень низкой безработицей. А дальше началось все то, что было перечислено в вопросе. Началась гонка вакансий, и она будет продолжаться до тех пор, пока не станет компаниям не по карману. Есть большая вероятность, что в этой лихорадке сумасшедшего найма скоро выяснится, что многие работники не нужны и чрезмерно дороги. И тогда, возможно, все пойдет в обратную сторону.
Должен сказать, однако, что дефицит и избыток ресурсов могут сосуществовать, если их переток по тем или иным причинам затруднен. Например, когда оказываешься в крупном торговом центре, трудно не заметить большое число сравнительно молодых мужчин крепкого телосложения, которые могли бы заниматься чем-то более производительным, вместо того чтобы дублировать камеры наблюдения. Или охранять какую-нибудь дверь, за которой нет ни особых секретов, ни ценностей. А сколько таких мест в одной Москве? И ведь не только в торговых центрах. Либо их труд пока недостаточно дорог, либо есть регулятивные требования содержать эту армию.
«Если использовать границы трудоспособных возрастов, применяемые для статистических оценок по странам ОЭСР — 15–64 года, то объем трудовых ресурсов в этих возрастных группах в России за период с 2010 по 2023 год снизился на 6,0% и, как показывает прогноз Росстата, снизится еще на 10,2% к 2046 году». (Татьяна Малева, Виктор Ляшок, РАНХиГС)
— Экономика замедляется целыми отраслями, и создается впечатление, что именно сейчас все может пойти в обратную сторону — к безработице. Может быть, структурной, но тем не менее…
— Не думаю, что будет значительная безработица. Для этого нет пока видимых причин. Скорее адаптация зарплат, адаптация цены труда. А если труд становится дешевле, компаниям проще справляться с издержками и нет необходимости увольнять.
В экономике происходит структурный сдвиг в пользу отраслей, ориентированных на военные нужды и на импортозамещение. И то и другое крайне трудоемко. В то же время предложение труда крайне ограничено: неблагоприятная демография, мобилизация и эмиграция, сокращение миграционного притока. В итоге доступная рабочая сила должна быть перераспределена в пользу приоритетного спроса на труд. Приоритеты в сегодняшней ситуации задает государство и поддерживает их щедрым бюджетным финансированием. Совокупный спрос на труд включает спрос со стороны сегмента, связанного с предприятиями ВПК, спрос со стороны гражданского частного сектора, включая индивидуальных предпринимателей как работодателей. «Эскалация вакансий» и трудности с их заполнением свидетельствуют о том, что совокупный спрос на труд больше, чем совокупное предложение.
Соответственно, рабочая сила должна перераспределяться в пользу тех отраслей экономики, которые с точки зрения государства являются приоритетными. Они имеют прямое финансирование из бюджета и почти не зависят от ключевой ставки и банковского кредитования. Все остальное в экономике, наоборот, зависит от ставки и кредитного финансирования.
Приоритетные отрасли вздувают зарплату, перетягивая на себя рабочую силу из других отраслей и вовлекая всех остальных в гонку зарплат.
Это увеличивает всем издержки, разгоняет инфляцию и создает кучу разных проблем. В итоге приоритетный сегмент должен увеличить свою долю в рабочей силе за счет всех остальных, поскольку предложение труда неэластично.
Это и есть структурная перестройка, но в какой-то момент она должна закончиться. Возможности производства товаров и услуг для населения в такой экономике будут подорваны. И это, в свою очередь, будет питать инфляцию.
Такая структурная перестройка уже произошла или пока нет? По имеющимся статистическим данным сделать окончательный вывод довольно сложно. Признаки ее в статистике Росстата безусловно видны. Например, численность штатных работников на предприятиях, производящих «готовые металлические изделия», за последние три года увеличилась почти на треть, хотя на всех крупных и средних предприятиях только на 10%. Но за чей счет пришел этот прирост, мы не знаем. Заметим, что численность занятых в образовании и здравоохранении за это время сократилась суммарно примерно на 300 тыс. человек, но вряд ли эти люди пошли на заводы.
Другой измеритель структурных перемен — это изменение в продолжительности отработанного рабочего времени. Она увеличилась. Но эта статистика крайне ненадежная.

Единый день карьеры «Работай в Иванове». Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
— Допустим, заканчиваются боевые действия, эта структурная перестройка застывает, и что дальше?
— Обратный ход дать очень сложно. Этот бульдозер будет идти вперед примерно с той же скоростью. Куда девать этих людей, которых уже наняли и обучили делать определенные вещи за неплохую зарплату? По опыту прошлых лет мы знаем, что конверсия — крайне тяжелая история. В конце 1980-х — начале 1990-х заводы по выпуску ракет пытались производить сковородки и лопаты — и не очень успешно.
— То есть, по сути, произошедшее загнало экономику в ловушку… Где дефицит кадров ощущается наиболее остро? Государство признает дефицит учителей и врачей — хотя здесь проблема решается как раз перенаправлением средств бюджета. Старшеклассников выпихивают в колледжи, чтобы получали рабочие специальности. Общим местом стали рассуждения о том, что стране нужны айтишники и инженеры…
— На самом деле инженеров в год выпускается тьма-тьмущая. Россия — мировой лидер по доле инженеров среди выпускников, хотя далеко не лидер по промышленному производству. Учителей и врачей из вузов выпускается также огромное количество. Но далеко не все из них идут работать по специальности. Причины разные — непривлекательные условия, разочарование в профессии, более соблазнительные альтернативы.
Но возникает вопрос: зачем выпускать еще больше инженеров, если не можем занять имеющихся?
Минобрнауки привело данные о численности принятых на обучение по программам «Инженерное дело, технологии и технические науки»: 341,7 тыс. человек в 2020 году; 357,2 тыс. человек в 2021 году; 387,7 тыс. человек в 2022 году; 409,9 тыс. человек в 2023 году и 412 тыс. человек в 2024 году. «За четыре года совокупный прием на инженерные программы вырос на 21%», — отметили в ведомстве, добавив, что в 2024 году доля первокурсников-инженеров в российских вузах достигла 41% от их общего числа. («Коммерсантъ»)
Данные о вакансиях приходят из нескольких источников: компании сообщают Росстату, сколько и по каким профессиям у них есть вакансии; компании также должны сообщать о вакансиях службам занятости; и, наконец, есть сайты типа «Хедхантер», «Суперджоб», «Работа.ру» и проч. Все эти источники смещенные и далеко не полные, но они рисуют примерно одну и ту же картину: больше всего люди нужны в торговле, логистике и строительстве. Это огромные по численности сектора с очень нестабильным персоналом. Например, Росстат говорит о том, что за III квартал 2024 года с крупных и средних предприятий торговли выбыло по разным причинам около 16% персонала, а в строительстве — больше 17%. Умножив эти цифры на четыре, мы получим годовые оценки. Этот отток надо возмещать, и они нанимают соответствующее число работников.
Какой-нибудь большой магазин типа «Перекрестка» по численности занятых тянет на приличный завод. Менеджеры знают, сколько примерно людей в среднем у них уходит в месяц. И в условиях перманентной паники и растущей конкуренции они заранее постят больше вакансий, чем в данный момент есть на самом деле.
В IT-секторе есть и реальный спрос, и очевидный перегрев. Об этом говорят многочисленные сообщения в прессе. Многие хотят создать свои собственные IT-системы, дублируя друг друга, нанимая целые команды, переплачивая им значительно.
Со временем выяснится, что далеко не все выживут. До 2020 года этот сектор был небольшой — всего айтишников было примерно миллион человек, немногим более 1% всех занятых. Сейчас цифры значительно выросли.
Существует еще один мощный фактор, влияющий на рынок труда, — это стремление к всеобъемлющему импортозамещению. Чтобы купить некий продукт за границей, требуется намного меньше труда, чем для его производства. И этот труд совсем другой специализации, квалификации и т.п.
— Число самозанятых растет, их уже, по статистике, более 12 миллионов. О чем это свидетельствует?
— Очень многие люди, которые занимаются разного рода деятельностью и никогда не думали об уплате налогов, теперь предпочитают зарегистрироваться, платить 4% и спать спокойно. Можно сказать, что это выход из тени.
Но в характере того, что они делают, ничего не меняется. Они, как правило, остаются малопроизводительными индивидуалами. Иной раз они к занятости никакого отношения не имеют — сдают квартиры, дачи, гаражи. Эти люди могут быть и крупными чиновниками, сдающими квартиру. То есть «самозанятый» по этой статистике не обязательно «занятый», это может быть получатель рентного дохода.
— Самозанятые статистически относятся к неформальному сектору?
— Это вопрос определения. По одному определению — оно называется производственным — неформальный сектор связан с домохозяйством. Это может быть, например, какое-то мелкое производство товаров или услуг на базе домохозяйства. У такого «предприятия» упрощенная отчетность, в нем заняты в основном члены этого домашнего хозяйства, оно может платить налоги, но может оставаться полностью в тени. Оно использует простые технологии и ограничено в доступе к капиталу. Так это видит Международная организация труда (МОТ). Российский ПБОЮЛ и «самозанятый» в целом попадают сюда, даже если платят налоги.
Второе определение называется легалистским: неформальность связана не с масштабом деятельности, а с охватом действующим регулированием. Если деятельность осуществляется вне принятого регулирования, то она неформальная. Часто эмпирическим критерием является уплата налогов или пенсионных отчислений. Поэтому по производственному определению работник может быть неформальным, а по легалистскому — формальным. И, кстати, наоборот.
Но даже в рамках легалистского определения есть сложность: да, платят налоги, но не полностью. Или соблюдают налоговое законодательство, но игнорируют трудовое и т.п. Как их классифицировать? Понятно, что точной статистики здесь быть не может, и отсюда множественность оценок, когда мы не знаем, что при этом имеется в виду.
Росстат пользуется производственным определением с некоторыми элементами легалистского. Это не совсем конвенциональный подход. Впрочем, это не имеет большого значения. Важнее ответить себе, что нас в связи с этим интересует? Уплата налогов, производительность труда или социальная защищенность работников? Все три параметра часто ассоциируются с неформальностью, но только ею не определяются. В оценках российской действительности я предпочитаю другое деление: на «корпоративный» и «некорпоративный» секторы. Первый включает все юридические лица, второй — все остальное. Это деление хорошо схватывается российской статистикой.
В третьем квартале 2024 года число занятых в неформальном секторе достигло 15,837 млн человек, или 21,3% от уровня всей занятости (показатель в среднем за месяц по июлю, августу, сентябрю). Это максимум среди всех кварталов с 2016 года как по абсолютной численности, так и по доле в общей занятости (в третьем квартале 2016 года показатели были выше — 16,3 млн, или 22,3%). (РБК, по данным Росстата)
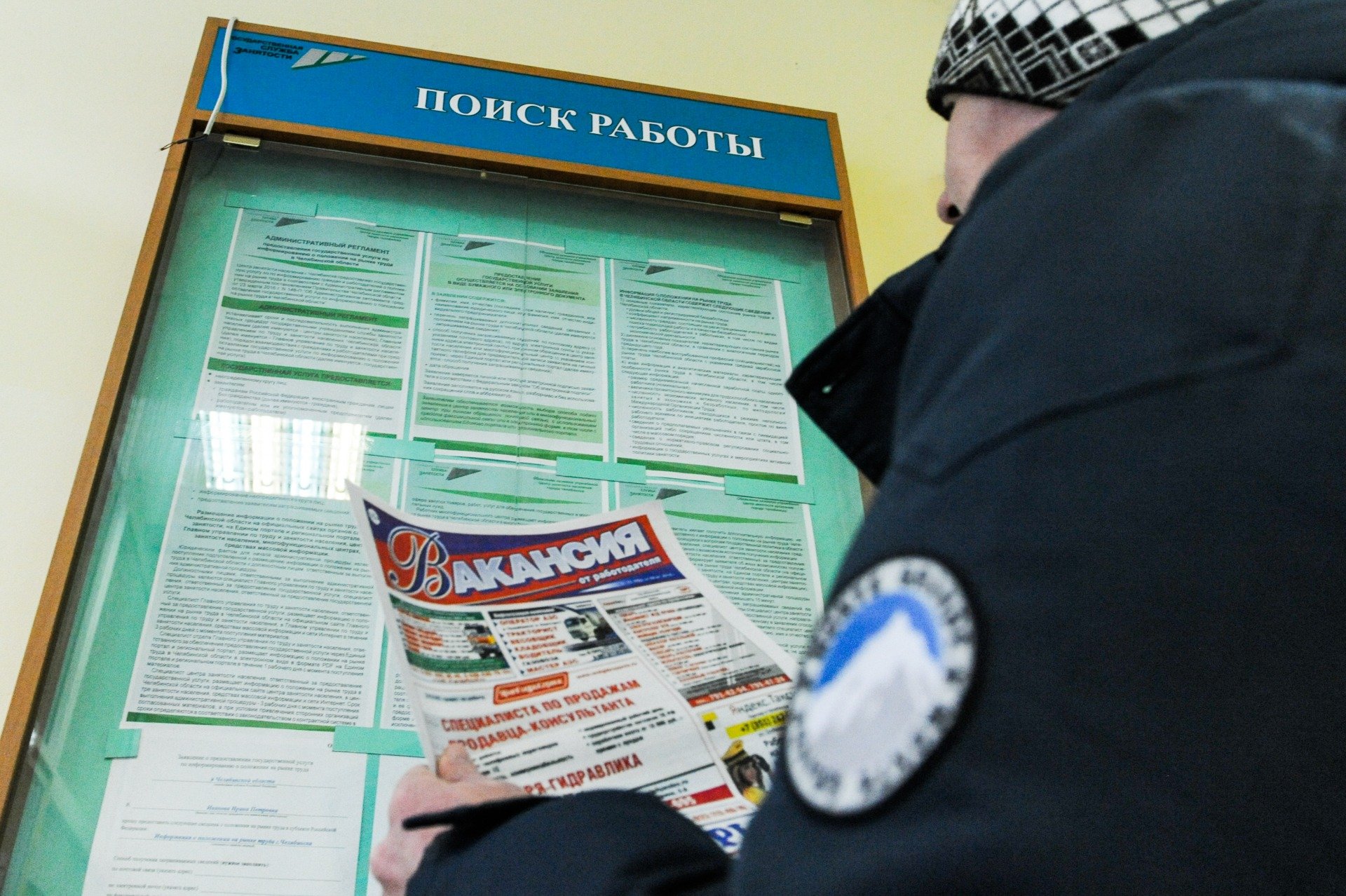
Фото: URA.RU / TASS
— А малые предприятия к чему относятся?
— Если это юридическое лицо, то это корпоративный сектор. Некорпоративный сектор, как правило, состоит из малых производственных ячеек, некапиталоемких, технологически примитивных, малопроизводительных, менее доходных, чем корпоративный. Это видно по статистике зарплат. Но внутри некорпоративного есть и очень высокооплачиваемые и высококвалифицированные индивиды, просто они в меньшинстве.
— Какова разница между регистрируемой и не регистрируемой безработицей?
— Регистрируемая безработица — это учет людей, не имеющих работу и пришедших в службу занятости. Желание регистрироваться зависит от множества обстоятельств, включая то, как близко от тебя находится этот офис, какое можно получить пособие, насколько приветливы девушки, которые там работают. Стандартная же мера общей безработицы строится на специальных опросах. В разных странах разница между двумя безработицами варьируется в зависимости от законодательства о занятости. Чем условия доступа к пособию жестче, а оно само меньше, тем регистрируемая безработица будет меньше. Есть страны, где регистрируемая почти нулевая, а общая может быть довольно большой. Есть иные примеры, когда пособие и зарплата сопоставимы. Например, в Испании пособие по безработице может быть под 1000 евро, а медианная зарплата менее 2000 евро. В этих условиях, если малооплачиваемый человек теряет работу, ему имеет смысл идти за пособием. Если пособие очень маленькое, как у нас, то смысла идти за ним нет. Ниже всего безработица в тех странах, где пособия нет вообще или оно бюрократически недоступно. В этих условиях расцветает неформальная занятость. В России обе безработицы сейчас очень низкие.
В декабре 2024 года только 25,7% безработных (по критериям МОТ) использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения. Большинство (68,3%) обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым. Численность безработных, официально стоящих на учете в службах занятости, в декабре 2024 года сократилась до 332 тыс. человек, что является минимальным показателем за весь год. По сравнению с декабрем 2023 года их количество сократилось на 142 тыс. 0,2 млн человек получали пособие по безработице. («Коммерсантъ», по данным Росстата)
— Что происходит с возрастной структурой занятости, в том числе с молодежной безработицей?
— Молодежная безработица всегда выше средней, но важно помнить про статистический нюанс. Уровень безработицы — это частное от деления числа безработных (то есть тех, кто находится без работы, ищет работу и готов к ней приступить) на общее число занятых и безработных в той или иной возрастной группе. Многие молодые люди учатся и не входят в знаменатель этого показателя. Поэтому даже небольшой по абсолютным меркам числитель при делении на маленький знаменатель может давать высокий показатель безработицы.
К этому надо относиться с осторожностью. К тому же многие молодые люди имеют временную занятость, меняя ее перед или после учебной сессии, тем самым вздувая показатель.
Молодые люди становятся все более острым дефицитом на рынке труда. Многие самые актуальные профессии — молодежные.
И это не только профессиональные спортсмены. Средний возраст айтишника недотягивает до 30 лет. Наоборот, возрастные — это учителя средней и начальной школы, а также врачи. В какой-то момент в распределении по возрасту инженеров появился такой молодежный горбик, отражающий омоложение профессии. Это видно на графике, построенном на данных Росстата за 2020–2021 годы.
— Каково соотношение квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы?
— А как считать квалификацию?
В академических исследованиях часто предполагается, что квалифицированные работники это те, у кого есть высшее образование, а неквалифицированные — у кого его нет. Доля обладателей высшего образования среди занятых в России составляет более трети. Еще примерно столько же — со средним специальным.
— А по критерию производительности?
— Очень многие люди даже с учеными степенями (высшая квалификация!), включая академиков, имеют нулевую производительность, особенно если производительность ученого измерять числом опубликованных статей в журналах с нормальным рецензированием.
Легко измерить производительность человека, который роет канаву. Она определяется количеством вынутого грунта в единицу времени, которое легко мониторится. Но производительность отдельных членов сложных коллективов, производящих сложные продукты, определить непросто. В них производительность квалифицированных работников может зависеть от производительности неквалифицированных. В общем случае производительность труда — это в большей степени групповой измеритель, а не индивидуальный.
— И все вносят вклад в ВВП… А как влияет на рынок труда и производительность всякая роботизация-цифровизация?
— Конечно, она положительно влияет, если можно производить больше с меньшими затратами труда. Если взять такие отрасли, как микроэлектроника или автомобильная промышленность, то в странах, где они сильно развиты, занятость в них небольшая, потому что все роботизировано. Например, Южная Корея — мировой чемпион по количеству роботов, и именно там очень развиты и микроэлектроника, и автомобильная промышленность.
Если у вас этих секторов почти нет, то и роботам особо негде разгуляться.
В строительстве, транспорте, торговле, во многих услугах роботизация, наверное, возможна на определенных участках, но она не играет ключевой роли. Роботы могут быть в складском комплексе. Как это сказывается на производительности? Зависит от того, сколько эта торговля продает. Если продукция не пользуется спросом, какая разница, сортирует ее робот или не робот. Пример автоматизации в торговле — это Amazon. Но там занято более полутора миллионов работников.
Сейчас много разговоров о том, что искусственный интеллект может увеличить производительность труда, хотя пока мало что говорит в пользу того, что это близкая перспектива. Надо иметь в виду, что большинство современных экономик — это экономики услуг. И здесь повышать производительность очень сложно. Относительно легко было повышать производительность в сельском хозяйстве и промышленности.

Фото: EPA
— Дистанционная занятость прижилась?
— Первоначальная эйфория по этому поводу постепенно проходит. Приходит понимание того, что дистанционная занятость менее эффективна, чем живая. Она, может, удобна для работников, но не для компаний. Это хорошо видно на примере американских технологических компаний — там стали активно отзывать сотрудников из дома в офисы. Многие сложные виды работ предполагают непосредственное взаимодействие. Дистанционная занятость это взаимодействие нарушает.
Доступные трудовые ресурсы России за 2022–2024 годы помимо военных действий сократились примерно на 2 млн человек в силу демографии: на пенсию ежегодно уходило значительно больше людей, чем вышло на рынок выпускников школ, колледжей и вузов.
Было призвано, по официальным данным, для участия в СВО за три года не менее 1,1 млн человек (330 тыс. мобилизованных осенью 2022 года, 350 тыс. и 420 тыс. контрактников в 2023-м и 2024-м).
Примерно 550 тыс. человек из гражданских отраслей перешли работать в оборонно-промышленный комплекс (см. оценку первого вице-премьера Дениса Мантурова летом 2024 года) и минимум 500–600 тыс. молодых россиян явно трудоспособного возраста уехали за границу, хотя часть из них продолжают работать на российские предприятия. (Михаил Задорнов, экс-министр финансов РФ, статья на сайте РБК «Что означает мир для России и Украины», 12 февраля 2025 года)
— Мы в разговоре шли от общего к частному. А теперь вернемся от частного к общему: какие тренды на рынке труда долгосрочные, а какие краткосрочные? Что с трендом выбытия трудоспособного населения, на который влияют еще и конфликты, эмиграции, миграции, ну и, конечно, демография?
— Наверное, тут нет единого мнения. Я вижу несколько долгосрочных трендов.
- Первый включает старение и сокращение населения в трудоспособном возрасте. Значит, будет расти доля в населении тех, кого должны содержать занятые, то есть иждивенческая нагрузка. Это неизбежный рост бюджетных расходов на здравоохранение и пенсии с последствиями для экономического роста.
- Второй тренд — тоже очень длинный и связанный с демографией. Это структурные сдвиги внутри занятого населения. И это даже более болезненная тенденция, чем сокращение рабочей силы в целом. В силу демографических волн, которые идут с начала XX века — революция, Гражданская война, Великая Отечественная война, репрессии, 90-е годы, — одно выбитое поколение накладывается на другое, рождается все меньше девочек, которые, взрослея, тоже рожают мало детей, и так далее. Сейчас на рынок труда начинает выходить малочисленное поколение, вобравшее в себя все отголоски трагических и драматических событий ХХ века. Внутри рабочей силы становится все меньше молодых. По нашим прогнозам, которые мы делали еще до ковида, к 2030–2035 году абсолютная численность занятых в возрасте 20–40 лет может сократиться примерно на четверть. С этого момента многое изменилось. Но то, что изменилось, не особо добавляет оптимизма.
Если средний возраст айтишника около 30 лет, и они, эти айтишники, очень востребованы, то таких людей будет намного меньше. Соответственно, IT-сектор должен будет нанимать, условно, пятидесятилетних. Пожилым нужно будет учиться делать работу молодых. Но проблема здесь такая: многие технологии меняются столь быстро, что немолодым людям угнаться за ними становится почти невозможно. Это как в профессиональном спорте — уже в 40 лет ты ветеран.
Да и стимулы к участию в такой гонке ослабевают по мере приближения пенсионного возраста.
- Третий тренд — то, о чем мы уже говорили, — структурная перестройка в экономике, начавшаяся в последние годы. Ее суть можно кратко назвать так — вперед, к экономике прошлого. Как мы видим, быстро развиваются обрабатывающие производства на основе активного использования старых технологий. Индустриальная экономика была характерна для 20-го столетия. Экономика XXI века подразумевалась как экономика знаний, для которой нужны, прежде всего, производители нового знания, а не металлических изделий на конвейере. Этот тренд будет трудно остановить, поскольку силы инерции будут сопротивляться.
- Четвертый тренд связан с третьим и касается подготовки человеческого капитала. Реформы в образовании последних лет, вызванные исключительно текущими конъюнктурными соображениями, могут негативно повлиять на долгосрочное накопление человеческого капитала. Если сегодня не хватает инженеров для каких-либо летающих/стреляющих изделий, а также токарей и слесарей для их изготовления, то давайте всю систему образования заточим на эти цели. Все остальное лишнее и не соответствует текущим приоритетам. Такой подход предполагает возврат к сверхспециализированной советской системе образования, которая в какой-то момент стала банкротом, утянув за собой миллионы людей с образованием, ставшим никому не нужным.
Беседовал Андрей Колесников