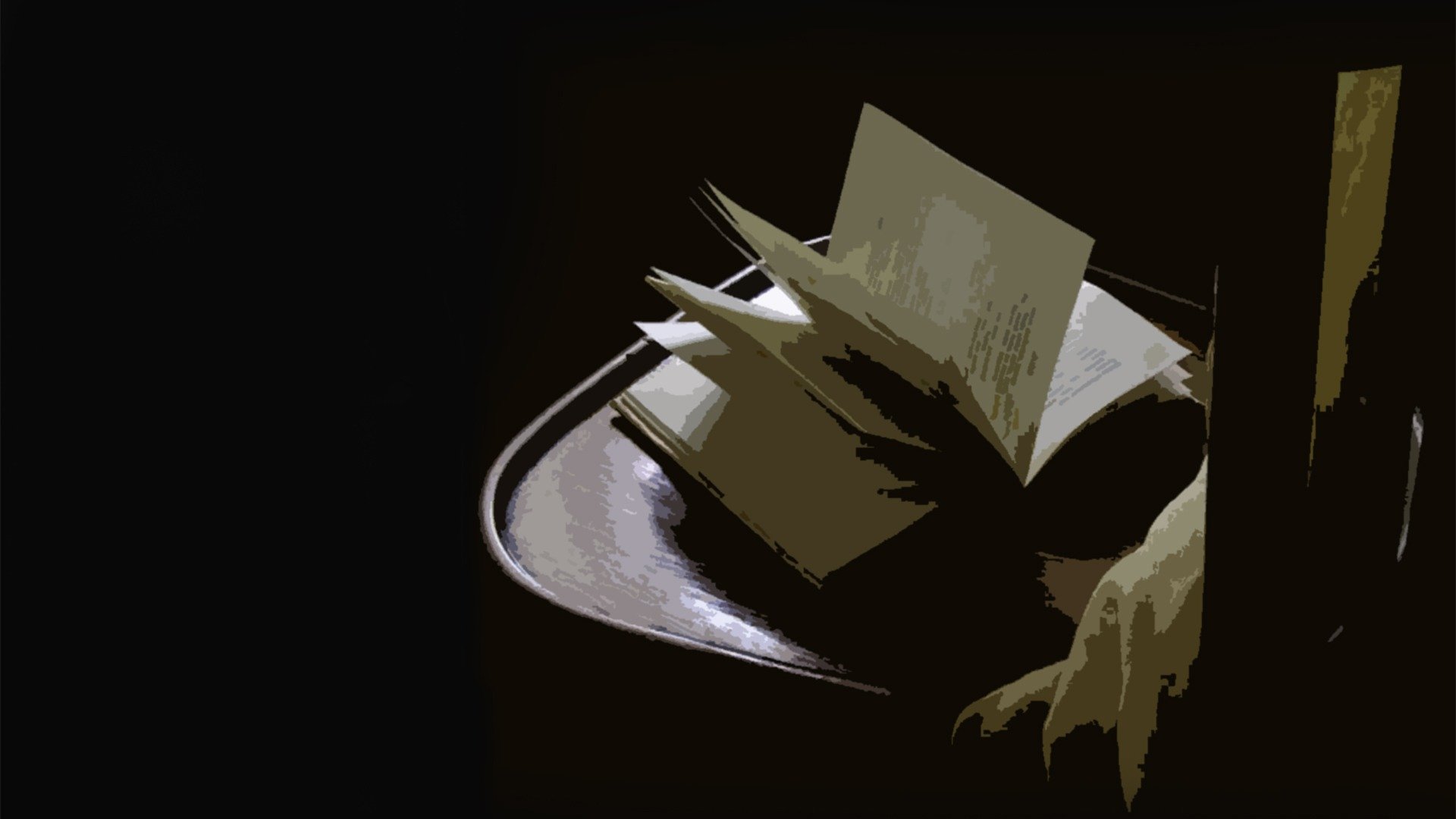Поэты «филологической школы»: Еремин, Кулле, Мохова, Уфлянд, Виноградов, Разумовская, Лосев. Фотография предоставлена Михаилом Ерёминым
Середина 50-х годов стала временем, когда страна оказалась в точке перелома истории, искусства, да и самой жизни. И за всеми ее переменами всегда обнаруживались люди, решившиеся пойти против установленных правил, изменить действительность. Иногда это были герои-одиночки, но зачастую единомышленники объединялись в группы, вырабатывавшие новые навыки существования. В литературе таким сообществом стала группа друзей, которую литературоведы назвали «филологической школой».
Поэт и литературный критик Михаил Айзенберг рассказывает о том, как ее участникам удавалось жить и писать так, будто советской власти не существовало, и почему тогдашние «маргиналы» вошли в историю не только русской, но и мировой культуры.

Михаил Айзенберг. Фото: Вероника Кравченко
Первоначально эта статья называлась «Читая антологию». Первым ее побуждением было одно впечатление, возникшее при чтении антологии «Русские стихи 1950–2000», выстроенной по годам рождения, так что авторы идут друг за другом возрастной чередой. Если читать ее подряд, этот принцип позволяет обнаружить неожиданную общность даже там, где ее не ждешь. И это не общность стилевых предпочтений, а что-то более глубинное. Обнаруживает себя какой-то поэтический дух времени — большой ритм с приливами и отливами. И в какой-то момент подходит волна нового звучания.
У каждого литературного поколения есть своя задача — поиск нового языка как сегодняшней темы и творческой идеи, идущей через художественное пространство в социальное. Но проступает портрет поколения не сразу — только издалека становится видно что-то общее в практике людей, каждый из которых считал, что занимается только своим делом. Схожесть определяется тем, что эти стихи писали не только авторы, но и их время.
Такой момент ясно ощущается, когда чтение антологии подходит к авторам, родившимся в середине тридцатых годов. Становится очевидным, что перейден какой-то рубеж: художественный, но в основе своей исторический. Можно предположить и причину: детство, совпавшее с войной. Возможно, эти люди воспринимали войну как несостоявшийся конец света (или как конец прежнего света); понимали, что живут после конца света, и само это чувство было сродни странной свободе.
Или это их ранняя юность пришлась на время, которому вставили вывихнутый сустав? Трудно сказать наверняка, но это совсем другие стихи, у них поразительно легкая поступь. Слова как будто умылись, смыли дорожную пыль, военную усталость. Изменилась их скорость и сама способность к движению; они весело забегали кто куда — никто уже за ними не гнался.
Именно такое чувство сопровождает повторное — через провал середины века — рождение русской поэзии: ощущение выхода витальной энергии совершенно иного, нового рода. А еще — какое-то веселье.
Что чувствует человек, объясняющий свои впечатления словом «новое»? Я думаю, он чувствует какое-то внезапное освобождение. Ему открывается возможность свободы в той ситуации, в том месте, где только что никакой свободы не было и она даже не предполагалась. Это новоселье свободы, оно неожиданно и радостно.
Взросление этих авторов совпало с концом периода, когда слова «современный» и «советский» общество считало синонимами.
Сам этот период был, вероятно, самой страшной ямой истории: эпохой, где человек ничему не хозяин, и нет у него ни биографии, ни судьбы, только участь.
Даже для уцелевших эти годы наполнены переживанием неосуществленной жизни. «Из чередования страдательного переживания непомерных исторических давлений и полуиллюзорной активности — получается ли биография? Уж очень не по своей воле биография» (Лидия Гинзбург).
Может быть, главным в судьбе каждого автора, вошедшего в пятидесятые годы в сознательный возраст, стала именно борьба за биографию. «Чтоб наизнанку, словно рукавицу, / Темницу вывернув» — вот формула этой стратегии по словам Михаила Еремина, одного из авторов «филологической школы» — едва ли не первой неофициальной поэтической группы Ленинграда. По позднейшему исчислению, этих авторов восемь, по первоначальному (1954) — шестеро: Леонид Виноградов, Михаил Еремин, Сергей Кулле, Александр Кондратов, Лев Лосев, Владимир Уфлянд.
Название «филологическая школа» принадлежит не авторам, а позднейшим публикаторам, но в нем есть неумышленная точность: члены кружка называли «школой» отрезок дальнего университетского коридора, где они обычно и собирались в годы совместной учебы в ЛГУ. То есть это топоним.
Работа многих из членов кружка вошла в основание обновленной русской поэзии, предъявив образцы новой стиховой материи и нового авторского поведения. Слово «поведение» здесь очень значимо. Андеграунд этого времени — пространство сугубо индивидуальных тактик, причем тактик не только (точнее, не просто) художественных. Отношения авторского и бытового поведения сложны и конфликтны; авторское поведение вносит в бытовое новые регистры — усложняет его и обогащает. Биографический образ выстраивается по законам текста.
Описание поэтики этих авторов — материал книги, а не статьи. Сложность еще в том, что нужно вести как один шесть совершенно разных разговоров — по числу авторов. «Мы настолько разные, что никогда не было соперничества» (Михаил Еремин). Эти шесть авторов действительно во всем различны — а школа все-таки есть.
Михаил Еремин
Наличествовать как орфографическое «твёрдо»
В несчастный час,
Когда под городом ворочается пустота
И рвутся цепи звонких окон,
Освобождая грани
От крепости углов,
А путник, соболезнуя владельцам штучной рухляди,
Имуществует без потерь.
1987

Михаил Еремин. Фото: соцсети
Сергей Кулле
Зачем же вы построили свой дом,
с балконом, садом, огородом и амбаром
в двенадцати шагах
от лежбища свиней,
в двенадцати вершках
от края
Колорадского каньона,
в двенадцати саженях от начала
малярийного болота,
в двенадцати прыжках от настежь
открытой
клетки с тигром,
в двенадцати ползках
от логова гадюк,
в двенадцати туазах
от склада ядерных головок,
в двенадцати бросках
от вражеских казарм,
в двенадцати английских лигах
от наводненного хулиганьем поселка,
в двенадцати получасах пути
от ненадежно охраняемой границы,
в двенадцати микронах
от колонии микробов,
в двенадцати аршинах
от мишени
на стрельбище неофашистов,
в двенадцати локтях
от кладбища машин,
где испокон веков нечисто?
17 декабря 1966

Сергей Кулле. Фото: архив
Леонид Виноградов
Я с фотопортрета
волчьего билета —
хитрый, как змея.
Нет, не я был это,
это был не я.
Или я был это,
а теперь не я?

Леонид Виноградов. Фото: Наталья Шарымова
Владимир Уфлянд
Бабушка Домаша
Кряхтят дрова.
Голосит метель.
Я все жива
после трех смертей.
Бог не дает мне костей сложить.
Велит мне еще пожить.
Опять, опять на этот год
нельзя мне помирать.
К Успенью ягода пойдет.
Кто будет собирать?
Кому вернет четверть ста годов
росистых зорь соловьиный зов?
Кому слезой затуманит взор
росы колокольный звон?
Гостей намоет серый кот.
Я ужин соберу.
Еще одна зима пройдет.
Опять я не помру.
Сперва рожать,
поднимать детей.
А после ждать,
провожать гостей.
А мать-земля только тех берет,
Кому подошел черед.
Зима пройдет, а на весну,
как дерево в бору,
ногами в землю я врасту.
И вовсе не помру.
Глаза печет
нам печаль дорог.
Слеза течет,
как древесный сок.
И не берет
нас земля сыра,
пока не придет
пора.
Пора, пора, пора, пора.
Роса течет с лица.
А лес гудит в колокола.
А жизни нет конца.
1974

Владимир Уфлянд. Фото: архив
Александр Кондратов
Хлебниковская осень
Лес лысеет.
Лоси. Лисы. Ласки.
Лес желтеет.
Жалко: жухнет жизнь!
Лес пустеет.
Постно паству пестует.
Лес ржавеет.
Нужные ножи
наждаком нежны.
Октябрь — с когтями.
Норы ноября.
Нам — нары ям!
Лес лосеет.
Лист что ласт
лысеет.
Лес безлистен.
Прост. Пуст. Пресен.
Лыс!
Синь о сон разбив,
отсеяв озимь,
сень свою высеивает осень.

Александр Кондратов. Фото: архив
Лев Лосев
Иосиф Бродский, или ода на 1957 год
Хотелось бы поесть борща
и что-то сделать сообща:
пойти на улицу с плакатом,
напиться, подписать протест,
уехать прочь из этих мест
и дверью хлопнуть. Да куда там.
Не то что держат взаперти,
а просто некуда идти:
в кино ремонт, а в бане были.
На перекресток — обонять
бензин, болтаться, обгонять
толпу, себя, автомобили.
Фонарь трясется на столбе,
двоит, троит друзей в толпе:
тот — лирик в форме заявлений,
тот — мастер петь обиняком,
а тот — гуляет бедняком,
подъяв кулак, что твой Евгений.
Родимых улиц шумный крест
венчают храмы этих мест.
Два — в память воинских событий.
Что моряков, что пушкарей,
чугунных пушек, якорей,
мечей, цепей, кровопролитий!
А третий, главный, храм, увы,
златой лишился головы,
зато одет в гранитный китель.
Там в окнах никогда не спят,
и тех, кто нынче там распят,
не посещает небожитель.
«Голым-гола ночная мгла».
Толпа к собору притекла,
и ночь, с востока начиная,
задергала колокола,
и от своих свечей зажгла
сердца мистерия ночная.
Дохлебан борщ, а каша не
доедена, но уж кашне
мать поправляет на подростке.
Свистит мильтон. Звонит звонарь.
Но главное — шумит словарь,
словарь шумит на перекрестке.
душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо

Лев Лосев. Фото: архив
Общность хотя бы в том, как они шутят с собственной судьбой, чтобы вырвать ее из общего ряда. И в том, что каждый стоит особняком: их практика не вошла в какую-то магистральную линию (за исключением, пожалуй, Лосева): не пошла ни по питерскому, ни по московскому «направлению». Такая оригинальность, не получившая продолжения, — явление именно того времени.
«Филологи» были не только маргинальными авторами, но и маргинальными людьми. Наверное, в основе это все-таки не «школа», а кружок, компания. Но с каким-то особым кодексом поведения и невероятными — для того времени — ритуалами. Новая поведенческая модель, но не личная, а кружковая (как бы по футуристическим рецептам, хотя общего немного).
На прошедшем когда-то в РГГУ вечере «филологической школы» показывали старые фотографии. Покраска ограды Екатерининского садика — по заветам, вероятно, Тома Сойера. Ритуальное открытие купального сезона (Нева, апрель). Отсюда один шаг до внешнего ограждения Невы, на котором те же авторы, подхватив случайное ведро с краской, ночью выводят аршинными (аршин явно не общий) буквами «Да здравствует Пастернак!» (1958). Не осведомлен о реакции властей, но на сегодняшний взгляд в этом спонтанном действии больше «акции», чем политической провокации. Но это какой-то стихийный акционизм.
На фотографиях видно, как они дико фотогеничны. «Фотогеничны не потому, что молоды. / Молодость — не фотогенична, / Фотогенична свобода» (Сергей Кулле). Именно, именно!

Поэты «филологической школы»: Еремин, Кулле, Мохова, Уфлянд, Виноградов, Разумовская, Лосев. Фотография предоставлена Михаилом Ерёминым
И не то чтоб время веселое, при советской власти веселых времен не наблюдалось. Дело в людях. Старшие товарищи «филологов» (Михаил Красильников, Юрий Михайлов, Эдуард Кондратов) умудрялись устраивать публичные «хепенинги» еще при Сталине.
«Для нее так шутят» — определяла Лидия Гинзбург мнение Ахматовой по поводу обэриутов. То есть пишут так, как раньше шутили. «Филологи» продолжают, но по своему обыкновению еще и выворачивают эту линию: шутят так, как раньше писали. И живут так, словно пишут одновременно и стихи, и биографию. Шутят с собственной судьбой, чтоб вырвать ее из общего ряда. Отсюда и эскапады.
Михаил Красильников позже был арестован, и в лагере (то есть уже после 1956 года) познакомился с лидером другой, схожей, но уже московской группы Леонидом Чертковым. Интересно, что примерно в то же время — не зная о лагерной встрече — на воле познакомились и начали общаться члены двух этих кружков.
Не так уж это и удивительно. Таких людей было очень мало, считанное число. В их встрече и последующей дружбе было что-то закономерное. Они были атомами иного — еще не существующего — социального тела: двигались по каким-то иным законам, иным траекториям и закономерно начинали притягиваться друг к другу.
Собственно, новейшая история литературы, искусства, да и просто
новейшая история этой страны в точке перелома — это история сравнительно небольшого количества людей, сумевших не поддаться общей инерции. Стоило бы изучить судьбу каждого из них.
Новое сначала пишется на полях, только потом переходит в основной текст. В те годы расхожим стало словечко «гений», заменив собой целую группу превосходных степеней. Под это определение подходил любой человек, делающий не то или не так, как другие. И это, в общем, справедливо: при полной замурованности в социальном монолите любое вольное движение требовало своего рода гениальности. Эти гении очень выделялись, бросались в глаза. Что категорически не приветствовалось государством и не очень нравилось обществу.
Может, культура — единый организм, в опасные времена выделяющий, как секрет, вещество гениальности? Какой-то призыв к спасению. Какой-то «зеленый свет».
Вот что хотелось бы понять.