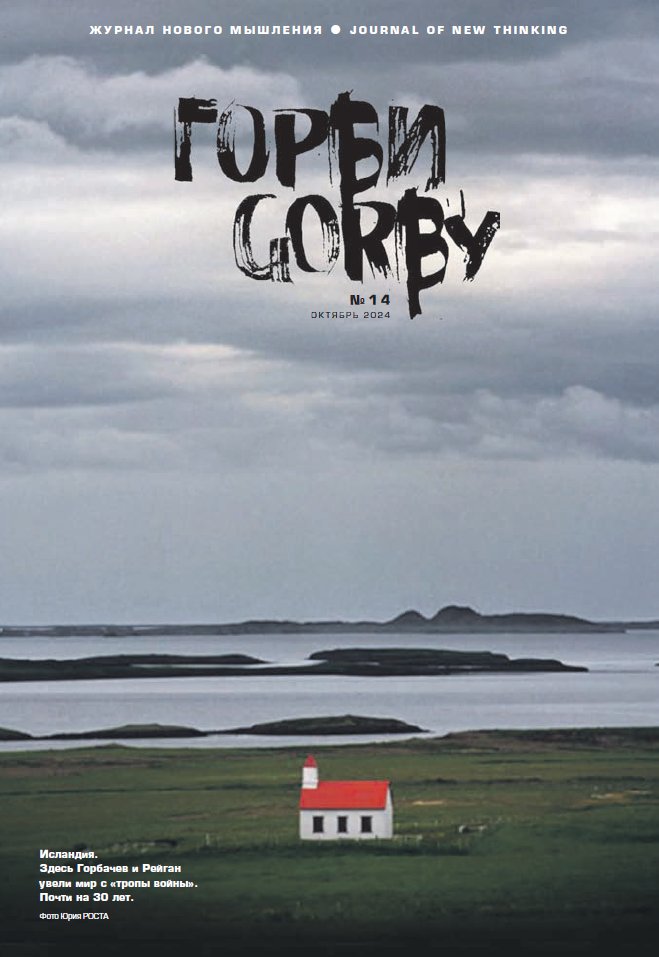Писатель и журналист Борис Мианаев нашел объяснение тому, почему сейчас так актуально чтение дневниковых записей о ленинградской блокаде. Прочитав уникальные свидетельства Любови Шапориной, в условиях тотального страха 30–50-х годов писавшей об ужасающих событиях с беспримерным умом и отвагой, он убедился в том, что они и сейчас могут быть примером для летописцев нашего времени.

Любовь Шапорина
…Когда я начал писать эту статью, одна близкая знакомая вдруг мне сказала:
— Не знаю, зачем сейчас читать о блокаде.
Это прозвучало довольно резко.
— Ты имеешь в виду то, что происходит вокруг?
— Да.
— Так поэтому я и читаю.
«Теперь, оглядываясь на эти года, когда над нами ежечасно летала смерть и мы делали вид, что ее не замечаем, оглядываешься и с удивлением видишь, что их, этих лет, нету. Неужели два с половиной года длилась блокада, неужели два с половиной года продолжалась игра в жмурки со Смертью… Два с половиной года, как я живу фантастической жизнью почти без заработка, с одной карточкой, и все-таки живу. Куда-то провалились эти годы, месяцы, дни. А вместе с тем сколько подлинного ужаса пришлось видеть за эти годы… Мне думается, что мы жили, работали, но подсознательный страх (не смерти, я ее не боюсь) — снаряда, бомбы, ужаса катастрофы — порабощал до известной степени нашу нервную жизнь, наш интеллект; и вот сейчас, когда в городе внезапно стало тихо, когда за двенадцать дней немцы отогнаны от города, смотришь назад и видишь, что время исчезло, провалилось».
(Л.В. Шапорина. Дневник. Том 1. M., НЛО, 2017, с. 425)
Что в этих словах цепляет, не отпускает и не дает отнестись спокойно: мол, «это далекое прошлое, это было не с нами»?
Да, мы не пережили такого. Да, мы не имеем права сравнивать. Страдания ленинградцев, переживших блокаду, для нас непредставимы. Но пережитое сегодня — это ведь тоже «порабощает нашу нервную жизнь, наш интеллект», и более того, мы подсознательно ждем, чтобы оно, это время, «куда-то провалилось», не так ли?
Блокадный опыт «провалился», потому что он был неприменим к мирной, обычной жизни.
Блокадники были потрясены тем, что, когда «все кончилось» — даже самые близкие, казалось бы, люди, но не пережившие блокаду, — не только не могли понять, но и не хотели признавать чужого страдания, его глубины.
Вот как Шапорина, например, описывает свою встречу с Анной Ахматовой в сентябре 1944 года:
«22 сентября. Встретила на улице Анну Ахматову. Она стояла на углу Пантелеймоновской и кого-то ждала. Она стала грузной женщиной, но профиль все тот же или почти. Что-то есть немного старческого в нижней части лица. Разговорились. «Впечатление от города ужасное, чудовищное. Эти дома, эти два миллиона теней, которые над ними витают, теней умерших от голода — этого нельзя было допустить, надо было эвакуировать всех в августе, в сентябре. Оставить пятьдесят тысяч, на них бы хватило продуктов. Это чудовищная ошибка властей. Все здесь ужасно. Во всех людях моральное разрушение, падение. — Ахматова говорила страшно озлобленно и все сильнее озлобляясь, буквально с пеной у рта, летели брызги слюны. — Все немолодые женщины ненормальные…» — «Не вижу, — вставляю я реплику, Л.Я. Рыбаковой…» — «Лидия Яковлевна никуда не выходила, ничего не видала. Все ненормальны. Со мной дверь в дверь жила семья Смирновых, жена мне рассказала, что как-то муж ее спросил, которого из детей мы зарежем первого.
А я этих детей на руках нянчила. Никаких героев здесь нет, и если женщины более стойко вынесли голод, то все дело тут в жировых прослойках, клетчатке, а не в героизме. Вы думаете, я хотела уезжать? — А.А. прищурила глаза, со злобой глядя на меня, ей, видимо, не нравились мои реплики. — Я не хотела этого, мне два раза предлагали самолет и, наконец, сказали, что за мной придет летчик. Все здесь ужасно, ужасно».

Анна Ахматова. Фото: архив
Прорыв блокады произошел в январе 1943 года, снабжение города, как гласят учебники, «было восстановлено», в январе 1944 года немцы были окончательно отброшены от Ленинграда.
Вот как описывала эти дни очевидец.
«27 января. Ленинград салютует войскам двадцатью четырьмя выстрелами из 300 орудий. Соседи побежали на улицу слушать. Мои же нервы настолько ранены, что мне сейчас и у себя в комнате слушать эти залпы тяжело. Это слишком похоже на то, чего мы наслушались на всю жизнь. Вот, кажется, и конец. Слава богу. Анна Ивановна ходила на Неву, видна была иллюминация, было очень красиво, улицы, крыши были полны народа».
Дневник, который вела Любовь Шапорина, жена известного композитора, выпускница Екатерининского института благородных девиц, петербурженка из «бывших», был опубликован по историческим меркам недавно, в начале десятых, в 2017-м году вышло последнее, третье его издание. Блокадные записи располагаются в первом томе, они как бы «прикрыты», растворены в том, что «до и после»: солнечная юность, поездки за границу, любовь, потом страшные годы революции и репрессий… Но и после войны (она умерла в 1967 году) ?Шапорина вела подробный отчет обо всем, что видела и слышала.
Однако именно блокадная часть дневника (а я начал читать именно с нее) стала какой-то важной частью моего сегодняшнего опыта.
Даниил Александрович Гранин в предисловии к последнему и полному изданию «Блокадной книги» писал так:
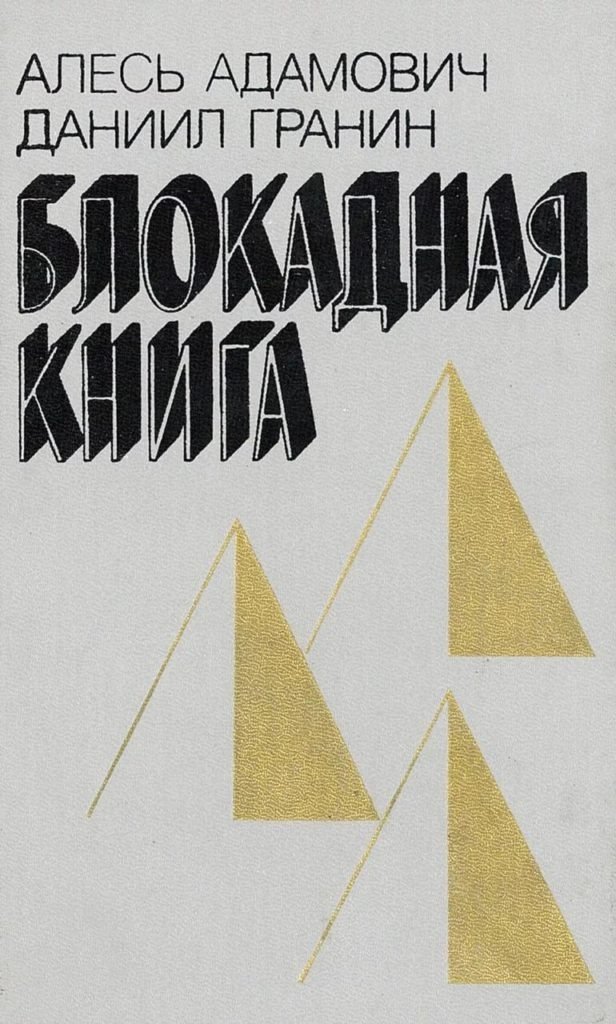
«Собственно говоря, с половины работы мы поняли, что напечатать эту книгу будет почти невозможно. Существовал к тому времени устоявшийся, окаменелый стереотип идеологии блокады. Блокада — героическая эпопея. Она воплощение подвига ленинградцев, которые не сдали город… На Нюрнбергском процессе было зафиксировано, что погибло шестьсот шестьдесят тысяч горожан. Мы вскоре поняли, что эта цифра приуменьшена значительно. А главное — что дело не в героизме. В конце концов, для многих это был вынужденный героизм. Героизм заключался в другом. Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали, где совершались невероятные поступки, вызванные голодом, морозами, обстрелом».
«Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича была издана сначала в урезанном виде в 1979-м, потом в более полном в 1982-м. Но окончательно полный текст книги вышел в «Лениздате» лишь в 2014 году.
В 2019 году в петербургском музее политической истории прошла выставка «Люди хотят знать» (автор проекта Наталия Соколовская) — о том, как создавалась и как проходила в печать «Блокадная книга». По материалам выставки в 2021 году появился и альбом. И вот из этого альбома, собственно, только теперь мы можем узнать, чем руководствовались партийные товарищи, когда кромсали и терзали «Блокадную книгу», не пускали ее в печать. «Вы развенчиваете подвиг Ленинграда; ваше дело — не страдания людей, а их мужество и стойкость, а вы смакуете ужасы». Это из устного отзыва первого секретаря обкома, члена Политбюро Романова. А вот из официального документа, им подписанного: «Во многих воспоминаниях Ленинград в период блокады характеризуется как «мертвый» город, жители которого охвачены одной-единственной мыслью… причем возможность сохранения жизни ленинградцев представлена почти во всех случаях лишь как следствие усилий отдельного человека или его семьи и близких».

Выставка «Люди хотят знать». Фото: Laika Дизайн-студия
Собственно говоря, именно этот «внутрисемейный», или «внутриквартирный», героизм (или, по выражению члена Политбюро, «следствие усилий отдельного человека и его семьи и близких») и описан в дневниках Шапориной.
…Любовь Васильевна, как и многие ленинградцы, не хотела уезжать. Просто боялась. Этот выбор, конечно, многим тогда стоил жизни, особенно в первый год блокады. Но этим «многим» казалось, что они должны будут расстаться не просто с квартирой, с домом, городом, привычками, «нажитым добром», но и с самой жизнью. Само понятие «жизни» было неотделимо от всего этого.
Ленинградцы считали, что, оставаясь, они защищают свой город, не отдают его врагу. Хотя для тогдашней власти они зачастую были лишь ненужным «расходным» материалом.
«Сверху, по-видимому, решили сделать вид, что все благополучно, а ослабевшие дистрофики — контрреволюционеры. «Была статья в «Ленинградской правде» «Холодная душа». «Холодная душа» — это умирающий дистрофик, апатичный ко всему, не реагирующий на митинговые речи, и есть «холодная душа»… Но, увы, «холодная душа» скоро превратится в холодный труп, ей не до газет».
Дневники Шапориной мало цитируются исследователями (по крайней мере, так мне показалось), с одной стороны, по причинам, указанным выше, а с другой — именно потому, что они представляют собой некий «живой хаос», то есть хаос самой жизни, похожий на целую блокадную вселенную. Они населены невероятным количеством персонажей, в чьих именах совсем непросто разобраться, недаром в двухтомнике едва ли не сотня страниц сносок мелким шрифтом и огромный именной указатель. Слухи, сплетни, мгновенные впечатления, бесконечное количество человеческих историй. Подробнейшая фиксация, порой безжалостная и бесстыдная по отношению к самой себе, всех стадий голода и выживания. Своих настроений — от паники до гнева. Своего круга чтения — оно в блокаду порой спасало и помогало сохранить себя. Я уж не говорю о бытовых мелочах, энциклопедически описывающих блокадную реальность.
«Опять на днях вышла в 8 часов утра в очередь (люди становятся с четырех), и опять то же впечатление не реальной жизни, а китайских теней. Много-много ног идут, спешат во все стороны. Люди видны на фоне снега и сугробов только до пояса, верх теряется на фоне домов. Полная тишина, только скрип мерзлого снега под ногами. Натыкаюсь на молодую женщину, упавшую по дороге, помогаю встать. Никто не останавливается, трусит мимо нее. На ней ватник, платок на голове. Просит помочь ей взвалить на плечи мешок с дровами. Берусь за него — не поднять, такая тяжесть. Немудрено, что она свалилась. Мы обе просим проходящих мужчин помочь — проходят пролетарии, не обращая внимания. Интеллигентный господин, шедший с дамой, подошел и со мной вместе взвалил дрова ей на плечи».

Ленинград. Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища. Декабрь 1942. Фото: РИА Новости
Автор дневника — безусловная патриотка, больше того, и в предисловии к книге, и в первых откликах на издание дневников ее величают «русской националисткой» (я к этой теме еще вернусь). Она не раз с ненавистью и ужасом пишет о немецких бомбежках, о желании немцев уничтожить город и его жителей.
Но этот патриотизм совершенно не мешает ей в своем дневнике абсолютно бескомпромиссно судить «хозяев» города и страны, тот политический строй и ту систему, в которой она жила. Я бы сказал —
в этом дневнике нет пощады. Даже такому святому вроде бы для русского интеллигенту понятию, как «народ».
«Наблюдая очереди, пришла к следующему грустному выводу. Двадцать четыре года рабочий класс был привилегированным, понастроили дома культуры, и вот результат: пролетариат сейчас озверел, женщины — это настоящие фурии. Интеллигентные женщины, мужчины вежливы, молчаливы, те же набрасываются на каждого. Кроме озлобления от голода и лишений, в них нет ничего. Я подхожу и кротко спрашиваю, за чем очередь? С остервенением начинают облаивать без причины… Воровство неслыханное: Катя Князева видела, как женщина с двумя детьми выходила из трамвая. Она несла кастрюльку с обедом. Ей надо было снять ребенка с площадки, и она попросила какую-то женщину подержать кастрюльку. Пока она снимала ребенка, та пустилась бежать с кастрюлькой, ее не догнали».

Очередь жителей блокадного Ленинграда за получением пищи. Фото: архив
Перед лицом общей беды, народного горя, войны, апокалипсиса очень сложно оказаться одному, не опираться на спасительное «мы», на стальные опоры, на несущие конструкции: государство, народ, политический строй, нацию. Непросто в такой ситуации говорить правду даже самой себе.
Но для автора дневника нет «священных коров» ни вверху, ни внизу — и во время большой войны она говорит то, что думает, и о власти, и о народе, и об интеллигенции.
«Приехавшая к вечеру санитарка Наташа, она из Московского района… рассказывает страшные вещи… Железнодорожный мост через Обводной канал разрушен. Наши орудия тоже стреляют. И среди этой пальбы, под разрывающимися снарядами — люди, обыватели роют траншеи. Вчера (говорит Наташа) там стали падать снаряды. Люди побежали. Им закричали: «Стой, ни с места». Ну которые умные, те успели убежать, а кто не убежал, все в кашу, одно мясо осталось.
Это рытье окопов в принудительном порядке — загадка для меня и для многих… Все это взято немцами, и немцы, как говорят, с благодарностью воспользовались готовыми траншеями. Сейчас-то, когда идет обстрел пригородов, это копанье производит впечатление маниакальной идеи сумасшедшего. Стопроцентное выполнение приказа и жажда выслужиться за чужой счет задурило бедным дуракам головы».
«Выйдя на Дворцовую площадь с Миллионной, я остановилась. Шел снег. Покрытая снегом черная шестерня на штабе неслась вверх. Колонна, штаб, Адмиралтейство, Зимний дворец казались грандиозными и вместе с тем призрачными, сказочными. А внизу по сугробам сновали маленькие, согнутые, сгорбленные, в платках и валенках темные фигурки с саночками, гробами, мертвецами, домашним скарбом, такие чуждые этой призрачной, царственной декорации.
…Чернь захватила город, захватила власть, захватила страну. Город отомстил за себя. Чернь, лишенная каких бы то ни было гуманитарных понятий, какой-либо преемственной культуры и уважения к человеку, возглавила страну и управляла ею посредством террора 24 года.
Сейчас, когда все инстинкты обнажились, город замерз, окаменел, с презреньем стал призраком, чернь осталась без воды, огня, света, хлеба, со своими мертвецами.
И смерть повсюду».
…В этом тексте невозможно отделить боль от гнева, справедливость от страсти, тут все слитно. И вместе с тем это, конечно, эпический текст, который мог быть создан только тогда, и только человеком, обладающим способностью смотреть прямо. На все.
Впрочем, ненавидимая Шапориной «чернь» — это ведь не просто «пролетарии», хамы и хамки или бывшие «кухарки», которые принялись «управлять городом». Это и чернь знатная, привилегированная, богатая и аристократичная.

После обстрела, 1941 год. Блокадный Ленинград. Фото: Всеволод Тарасевича МАММ МДФ
В дневниках не раз описано, как «Наталья Васильевна» (Крандиевская) помогает во время блокады, описаны спасительные «обеды», иногда довольно богатые по меркам блокадного Ленинграда (благодаря посылкам А.Н. Толстого), внимание, забота, теплота, гостеприимство и прочие ее замечательные человеческие качества. Но сама Крандиевская так говорит о своем круге: да, когда мы видели голодающих в тридцатые годы, которые валялись на вокзалах, просили хлеба, умоляли, мы проходили мимо них, смеясь, в шубах, сытые, из ресторанов… Мы сами во всем этом виноваты.
Невозможно отделаться от почти физиологического ощущения, что то, что описано в блокадных книгах, — вдруг вернулось в нашу реальность. Вот из «Записок блокадного человека» Лидии Гинзбург:

«Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мейерхольдовскую конструкцию. Есть разрезы маленьких разноцветных комнат с уцелевшей круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с уцелевшей дверью, иногда приоткрытой. Страшная бутафория аккуратно сделанных, никуда не ведущих дверей. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди. Он, конечно, знает об этом, он слышит, как над ним двигают мебель, даже колют дрова.
Но все это абстрактно, непредставимо, вроде того, что мы несемся в пространстве на шаре, вращающемся вокруг своей оси. Каждому кажется, что пол его комнаты стоит на некоей перекрытой досками почве. Теперь же истина обнаружилась с головокружительной наглядностью. Есть дома сквозные, с сохранившимся фасадом, просвечивающим развороченной темнотой и глубиной. А в пустые оконные выбоины верхних этажей видно небо. Есть дома, особенно небольшие, с раскрошившейся крышей, из-под которой обрушились балки и доски. Они косо повисли, и кажется — они все еще рушатся, вечно падают, как водопад».
А вот фрагмент из дневников Шапориной, и это тоже современный апокалипсис, но описанный иначе:
«Меня обогнал грузовик, высоко нагруженный голыми трупами. На грузовике была грубо слаженная клетка, трупы лежали в беспорядке. Первое бессознательное впечатление — архаические деревянные Христы с польских кальвариев. Тела были, или мне так показалось, не мертвенно желты, а слегка подкрашены, розоваты, что и напоминало деревянные раскрашенные распятия…
Лицом к решетке лежал мужской труп, одна рука была прижата к груди, левая высоко наотмашь поднята, как на кресте, волосы спускались на лоб. Это пронесшееся видение — одно из самых сильных впечатлений за зиму».
Ленинградцы, петербуржцы справедливо говорят: москвичи, вообще жители других городов зря берутся за блокадную тему.
Наверное, в этом есть своя правда: невозможно полностью понять не только ужас, но и сам быт, саму материю блокады, если ты не жил в этом городе, если у тебя нет семейной памяти об этой трагедии, если у тебя нет особой идентичности, связывающей тебя с блокадниками.
Но в том-то и дело, что сегодня этот опыт считывается совсем по-новому.
Как?

Блокада. Заготовка дров. Фото: Борис Кудоярдов / МАММ МДФ
Блокадные книги (и в данном случае, как пример, дневники Шапориной) не раскладываются на понятные всем уроки, параграфы, разделы, это, конечно, не учебник. Их неожиданная близость нашему опыту, их просто пугающая психологическая узнаваемость вынуждает нас медленно и осторожно прикасаться, распутывать, разгадывать саму эту близость.
Но есть вещи, которые понятны почти сразу.
Катастрофа — внешняя, внутренняя, имеет свойство кончаться. Салюты на Неве обязательно зазвучат.
На что опираться, пока она длится? На свой собственный опыт. Последнее дело — разочаровываться в своих идеях, идеалах, в своей жизни и ценностях.
«Пришла к поздней обедне. Она не состоялась по усталости и болезни священника. Он только «освящал куличи». Это было трогательно. Шли женщины с ломтиками черного хлеба и свечами, батюшка кропил их святой водой. Я приложилась к Спасителю, отошла в сторону и расплакалась. Я почувствовала такую безмерную измученность, слабость, обиду ото всего, хотелось плакать, выплакать перед Ним свое одиночество, невыносимость нашей жизни… Господи, Господи, помоги мне, помоги всем нам, несчастным людишкам».
Окружающие люди во время катастрофы могут чувствовать, быть молодыми и любить, остро переживать счастье жизни — вряд ли стоит этому ужасаться.
«Пришла Соня Муромцева. Я страшно ей обрадовалась. Вид у нее прекрасный, даже не похудевший. Живет по-прежнему в Александринке, платонически увлечена П.З. Андреевым, приглашена на работу на радио».
Работа спасает, и в материальном, и в моральном плане, — если ты не идешь на компромисс со своей совестью, держись за то, что ты умеешь и знаешь, и это не просто «переключение внимания», как пишет Шапорина, это нечто гораздо большее.
«…Идет Пехов, Всеволод Сергеевич. Вот человек, который казался мне обреченным на гибель этой зимой. Худой, высокий, чахоточного вида, не от мира сего, как он выжил? Я его окликнула. Он очень обрадовался и рассказал, что продолжает работать в ГАИСе в Доме Зубова (институт истории искусств. — Б. М.) и с увлечением работает над вопросом о детском театре. Кроме того, все время делает театральные эскизы для себя. Зимой болела нога, он пролежал два месяца в больнице и все время там рисовал, делал эскизы. Благодаря этому и поправился… Его огромные глаза горели при этом. Творческий запал спасает людей, это все то же «перемещение внимания»… Как бы мне хотелось вернуться к умственной творческой работе».
Никакая «общая беда», никакой «современный апокалипсис» не может решить личных, семейных проблем — они остаются с вами навсегда, крест надо нести, а не пытаться сбросить его в гуле «воздушной тревоги» («С Васей невыносимые отношения»). Вася — сын, и драматическим семейным отношениям посвящены едва ли не десятки абзацев в этом эпическом, библейском тексте о блокаде.
Интеллект, ваши книги, ваши знания — глубочайшая опора, которую нельзя терять («Здесь, в больнице, я в первый раз прочитала всего «Фауста» на немецком и наслаждалась»), в дневнике Любови Васильевны — десятки цитат на русском, французском, немецком языке, стихи и проза, все это буквально перемешано с детальными подробностями голода и выживания.
Трезвый и по возможности прямой взгляд в будущее (« — Как ты думаешь — изменится ли что-нибудь после войны? — спросила я его.
— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет.
Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!)… «Они» делают с нами что хотят» — это уже из дневника Ольги Берггольц. А вот что писала Любовь Шапорина: «Мы с Татьяной Владимировной шли по Невскому и беседовали:
«Ничто в строе нашей жизни не может измениться. Никаких сдвигов в победившей стране не может быть».
На что я отвечала: «… Не может страна продолжать нищать — это было бы равносильно смерти».
Довольно важный урок проживания блокады — это противоречия, изменения и контрасты в самой личности автора. Насколько страшными и горькими были слова Шапориной о русском народе в начале блокады, настолько сильным оказалось ее восхищение и даже благоговение перед ним в конце войны. Насколько ненавистны ей были официоз и ложь на фоне голода и поражений, настолько же сильным вдруг оказывается ее восхищение поэтом Николаем Тихоновым, председателем Союза советских писателей, который «оставался в городе».

Эвакуация жителей Ленинграда зимой 1941 — весной 1942. Фото: Александр Михайлов / Частный архив
Не обойти тут и такую тему, как бьющий в глаза антисемитизм выпускницы Екатерининского института благородных девиц. Вот она говорит с соседкой, которую неприязненно называет мадам Вульф. («Знаете, — я совершенно извелась от всех этих разговоров. Все уходят пешком, идти около 200 километров. Вещи везут на машинах, уходят медвузы, но ведь это безумие… И я никуда бы не двинулась. Но я еврейка, и я боюсь, что Ленинград могут не отстоять, что его может постигнуть судьба Ростова, что какое-то время он может быть в руках немцев. И это страшно. А ехать куда? Я здесь буду голодать на своем стуле, там я тоже буду голодать, но неизвестно где». Я ее спросила, неужели она верит во все те ужасы, которые немцы творят с евреями и которым я не доверяю. «Нет, это факт»). На евреев сваливает Шапорина все грехи советской власти, все ее преступления. Неприятные, отвратительные страницы. Хочется бросить, не читать и уж тем более не писать об этом.
…Люди могут заблуждаться, и во время тяжких испытаний тоже, вопрос лишь в том, могут ли они затем отказываться от своих заблуждений.
Но, быть может, самый главный для меня вывод из всего этого чтения: нужно записывать. Да, записывать. Чтобы не забыть. Чтобы не потерять свою «нить повествования». Чтобы потом у кого-то была возможность узнать.
…Долгое время мои современники спокойно пользовались возможностью «публичного дневника» и говорили все, что думали, в своих блогах и соцсетях. Сегодня большое количество людей этой возможности лишены. Дневник Шапориной доказывает: говорить правду нужно, хотя бы для самого себя. Дневники в своем первозданном виде, то есть записи, которые увидят только наши потомки, — вновь возвращаются в нашу жизнь. Или должны вернуться.
«Боже мой, Боже мой, сколько еще десятилетий пройдет, сколько крови прольется, пока Россия «воспрянет ото сна», отдохнет, придет в себя, осознает себя и вновь станет великой державой. Сердце ноет, не хочется думать. И об этом стараются свыше».