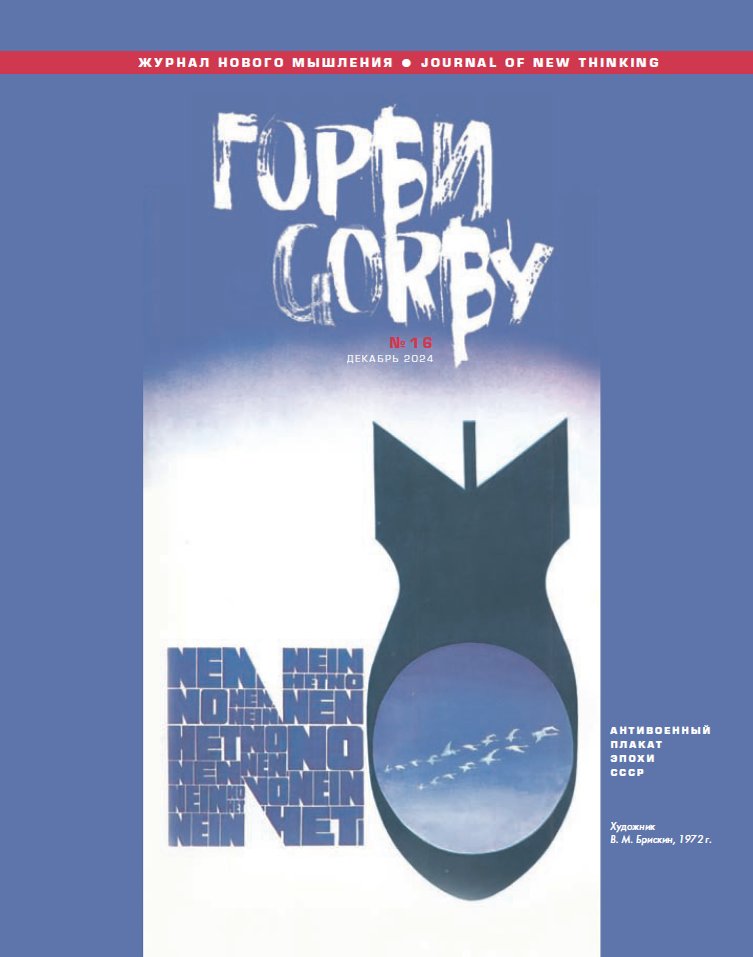Фото: EPA
Американские выборы 5 ноября 2024 года принесли Республиканской партии «трифекту» — убедительную (хотя и не сокрушительную) победу Дональда Трампа, контроль над Сенатом и несколько увеличившееся большинство в палате представителей. В картину доминирования республиканцев надо вписать и подавляющее большинство, которым они обладают в Верховном суде, — из девяти судей шесть назначены президентами-республиканцами, из них трое — Трампом, у которого есть большие шансы в предстоящие четыре года назначить еще одного. Все это создает впечатление «республиканской революции», столь же неожиданной, сколь необратимой. Демократы, кажется многим, выброшены на свалку, если не на пепелище истории.
В прошедшие после выборов дни и недели не было недостатка в объяснениях причин их поражения. Некоторые из них лежат на поверхности. Одним из главных козырей Трампа была проблема иммиграции, которую демократы откровенно прохлопали. Нельзя было допускать полный хаос на границе, смотреть сквозь пальцы на толпы людей, переходящих ее ежедневно сотнями и тысячами. Страну, неустанно твердил будущий президент, заполонили убийцы, насильники, террористы, «которых к нам засылают». Мол, они отравляют кровь нашей нации, ввозят наркотики, отнимают рабочие места у наших граждан, в том числе у чернокожих американцев (это был сильный полемический ход, хотя безработица в США сейчас закрепилась на низком уровне). В этом вопросе на Трампа работали любые преувеличения и передержки, в том числе потому, что в США немало людей, которых раздражают любые иммигранты, причем легальные не меньше, чем нелегальные.
Столь же успешно сыграл Трамп на проблеме инфляции. Ее пик пришелся на июнь 2022 года — год к году 9,1%, что для США очень высокая цифра. Среднегодовая инфляция в период президентства Джо Байдена составила около 5%, а в сентябре 2024 г. она упала до 2,5%. Но перед глазами людей — подскочившие цены в супермаркетах и на автозаправках, и к этим цифрам они до сих пор не привыкли. Трамп бил в эту точку в каждой своей речи, в каждом интервью, и это работало. Рассказывать рядовому избирателю о том, что ковид и необходимость печатать деньги, чтобы помочь сидевшим в локдаунах людям и простимулировать рухнувшую экономику, приводить статистику, доказывающую, что американская экономика вышла из ковидного кризиса быстрее всех других развитых стран, было бесполезно. Во всяком случае, демократы не нашли тех слов, которые убедили бы простого человека, не прошедшего начального курса макроэкономики.
Вообще, «простой человек» стал, видимо, главным героем прошедших выборов, во всяком случае, в глазах большинства комментаторов.
Но это верно лишь отчасти. По сравнению с выборами 2020 года Трамп увеличил свою поддержку практически во всех возрастных группах и демографических категориях, за исключением одной — это женщины с высшим образованием.
Посмотрим на эти группы
Молодежь (18–29 лет). В этой демографической группе победила Харрис (52% против 46% у Трампа). Но Байден в 2020 году превзошел Трампа на 25 процентных пунктов (п.п.), а Хилари Клинтон в 2016-м — на 16. И еще один примечательный факт — среди молодых мужчин победил Трамп (+14 п.п.).
В возрастной группе от 30 до 44 лет Трамп также увеличил свое представительство, проиграв совсем немного — 4 п.п. (Байдену в 2020 году — 12).
Явка в этих группах была неожиданно низкой. В общем, Харрис молодежь не зажгла.
Женщины. Ожидалось, что здесь Трамп сильно проиграет из-за своей позиции по проблеме права женщин на аборт. В 2022 году Верховный суд, в котором Трамп обеспечил подавляющее преимущество консервативных судей, отменил постановление 1973 года, закрепившее это право на федеральном уровне, и передал этот вопрос на усмотрение отдельных штатов. Фактически это означало, что женщины в штатах Юга и Среднего Запада лишались этого права полностью или частично. Предполагалось, что негативная реакция женщин на это постановление «трамповского суда», уже проявившаяся на референдумах в некоторых штатах, отберет у Трампа значительную часть голосов женщин. Но, как говорили мне многие американцы, демократы, видимо, переоценили значение этой проблемы на фоне других. Трамп увеличил свою долю среди женщин в целом на 3 п.п. по сравнению с прошлыми выборами, а в группе женщин от 18 до 44 лет преимущество Харрис сократилось в два раза по сравнению с преимуществом Байдена в 2020 году.

Голосование на выборах президента США в Калифорнии. Фото: AP / TASS
- «Рабочий класс». Употребление этого термина в данном случае несколько условно (к этой категории в США относят не только промышленных рабочих, но и практически всех, кто не имеет высшего образования), но за неимением лучшего он вполне подойдет. В этой категории Трампу проиграли и Хиллари Клинтон, и Байден. Но если Клинтон 6 п.п., а Байден 4, то Харрис — 12. Это много, хотя называть республиканцев «партией трудящихся», как они это делали во время предвыборной кампании и с еще большей убежденностью делают сейчас, по-моему, рановато.
- «Латинос» и чернокожие американцы. Эта группа долгое время была одной из опор демократов. И на этот раз американцы латиноамериканского происхождения и афроамериканцы в большинстве своем проголосовали за Харрис. Но Трамп существенно увеличил свою поддержку в этих группах, особенно среди мужчин.
Особенно тревожная для демократов цифра:
согласно результатам экзитполов CNN, по сравнению с 2020 годом поддержка Трампа среди граждан, голосовавших впервые, увеличилась на 24 процента.
Во всех этих группах рост поддержки Трампа в значительной мере обеспечили антиэлитные настроения, нацеленные, прежде всего, против демократической партии и сформировавшейся в ней идеологии, акцентирующей проблемы, чуждые многим американцам, особенно на фоне экономических трудностей последних лет. Одних раздражает чрезмерное внимание к проблемам меньшинств, уязвимых групп населения, инвалидов, других — гендерная тематика (в частности, возникшая вдруг как бы ниоткуда проблема трансгендеров), третьих — снос стоявших долгие годы и вроде бы никому не мешавших памятников южанам — полководцам гражданской войны, четвертых — либеральный уклон университетской профессуры. Многих — все это, вместе взятое. Политическая, бюрократическая, университетская элита, господствующие в эфире СМИ, говорят они, оторвались от народа, высокомерно говорят о простых людях, не умеют и не хотят слушать их. В этой критике есть большая доля истины, и сразу после выборов ее подхватили многие демократы.
Боровшийся за выдвижение своей кандидатуры в 2016 году от демократической партии и проигравший соперничество Хиллари Клинтон сенатор Берни Сандерс, идеологически причисляющий себя к социалистам, задолго до выборов бил тревогу: демократическая партия забыла о нуждах и проблемах трудящихся, бросила их на произвол судьбы. Поэтому демократы, отвернувшиеся от трудящихся, не должны удивляться, что трудящиеся отвернулись от них, говорит он сегодня. В то время как один процент американцев наслаждается своим баснословным богатством, шестьдесят процентов живут от зарплаты до зарплаты.

Сторонница Камалы Харрис во время ее выступления с речью в кампусе Университета Говарда после признания поражения на выборах. Фото: AP / TASS
Можно сказать, что на протяжении последних примерно четырех десятилетий при всех президентах — республиканцах и демократах — шел процесс обогащения корпоративной, финансовой Америки и эрозии среднего класса, носителей американской мечты о собственном доме, денежном достатке и о том, что их дети будут жить лучше них. Сегодня собственный дом недоступен для подавляющего большинства молодых семей, выпускникам университетов приходится долго искать достойную, хорошо оплачиваемую работу, а уровень жизни, характерный для «золотого века» 1950–1960-х годов, для многих недосягаем. Харрис в своих предвыборных выступлениях говорила, что «Трамп зовет нас в прошлое, но мы туда не пойдем». Но лучшее в этом прошлом по-прежнему привлекательно для людей, в то время как будущее туманно. Создать его образ демократы и Харрис не смогли. За нее проголосовало на десять миллионов человек меньше, чем за Байдена на прошлых выборах (Трамп потерял всего один миллион). Разочарование, недовольство настоящим и страх перед будущим доминируют сегодня в настроениях миллионов американцев, и они обрушили свое недовольство на демократов, олицетворяющих в их глазах преуспевающую элиту. Республиканскую элиту эти люди тоже не жалуют. Но Трамп нашел путь к их сердцам.
Многие, в том числе сторонники Трампа и некоторые стратеги его кампании, предполагали, что ему может навредить шоковая стилистика его выступлений и высказываний — оскорбления и угрозы в адрес политических противников, навешивание ярлыков и подростковых кличек, легко опровергаемые «альтернативные факты» (которые, однако, застревали в памяти людей) и тому подобное. Но и здесь интуиция не подвела Трампа — он оставался самим собой, рассудив, что это скорее привлечет людей, которые именно так думают и так говорят, а хорошо воспитанных традиционных республиканцев, которым подобный стиль может быть неприятен, все-таки не оттолкнет. Расчет оказался стопроцентно верным. Не произвели особого впечатления на большинство американцев и разного рода скандалы, связанные с именем Трампа, которые наверняка подточили бы репутацию почти любого другого политика. Люди знали Трампа, он уже был президентом, и ничего страшного тогда не произошло. В целом можно сказать, что для большой части американской публики моральный облик кандидата в президенты оказался, мягко говоря, несущественным. Голосуя, большинство людей исходят из того, что президент будет представлять не их самих, а их интересы.
Харрис, в отличие от Трампа, в своем поведении и выступлениях строго соблюдала все принятые в американской политической жизни приличия, условности и правила политкорректности, но в глазах многих это создавало впечатление запрограммированности и фальши. Более того, проголосовавшие за Трампа избиратели отвергли не только эти приличия и условности, но фактически и американскую политику в целом, во всяком случае, в ее нынешнем виде.
Смогут ли голосовавшие за Трампа американцы через полтора-два года сказать, что в стране произошли изменения, которые отвечают их интересам, что их жизнь изменилась к лучшему?
От ответа на этот вопрос будет зависеть многое. Мне кажется, что многие скажут «да». И не только его «корневой электорат», скандировавший «Сделать Америку снова великой!» и готовый поддержать Трампа, что бы ни случилось, но и многие другие. Дело в том, что прогноз состояния экономики на предстоящие пару лет — положительный. Трамп наследует у Байдена (как, кстати, и Буш-младший у Клинтона, и «Трамп-первый» у Обамы) вполне прилично работающую экономику. Председатель правления Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (кстати, выдвинутый на эту должность Трампом во время его первого президентства) после выборов сказал, что «наша экономика развивается на удивление хорошо — намного лучше, чем экономика любой из ведущих стран мира». Это подтверждают цифры — инфляция и безработица находятся на низких уровнях, рынок акций — на высоком, быстро растет, в том числе за счет госконтрактов, малый бизнес. Кроме того, эффект профинансированных при Байдене программ стимулирования ряда отраслей промышленности и обновления инфраструктуры, большинство из которых Трамп вряд ли захочет отменять, будет ощущаться еще долго.
Насколько успешной будет экономическая политика Трампа (включающая такие сомнительные пункты, как повышение тарифов практически на все ввозимые в страну товары, в том числе запретительные пошлины на товары из Китая), сейчас сказать трудно. Сейчас, когда выборы позади и Трамп объявил состав своей экономической команды, создается впечатление, что его реальная экономическая политика будет более осторожной. Выдвинутый им на пост министра финансов инвестор Скотт Бессент выступает за постепенное введение тарифов, чтобы смягчить их влияние на внутренние цены. В целом можно предположить, что ничего страшного в экономике не произойдет. Не произойдет и обещанных Трампом чудес, но основания для относительного оптимизма есть. В том числе, как это ни кажется странным сейчас, может начаться процесс преодоления поляризации, поразившей американское общество в последние десять–пятнадцать лет.

Камала Харрис выступает с речью после поражения на выборах. Фото: AP / TASS
В течение месяца, который я провел в США, я не раз спрашивал американцев, как они относятся к поляризации общества. Ответы были разные, но в сухом остатке следующее: большинству людей поляризация не нравится, и многие из них надеются, что можно оставить в прошлом хотя бы наиболее уродливые ее формы. Даже в ходе предвыборной кампании произошло, как ни странно, некоторое сближение позиций соперничающих сторон. Иногда даже казалось, что, при всей взаимной враждебности, по некоторым вопросам между ними скорее риторические, «стилистические», а не существенные разногласия.
Трамп сдвинулся в сторону «рабочего класса», искал (и нашел) поддержку у профсоюзов, расовых меньшинств. Отсюда обещания гарантий сохранения социальных программ, к которым республиканцы раньше относились весьма критически. Харрис хотела привлечь на свою сторону часть республиканцев (эта ставка, правда, себя не оправдала), отсюда сдвиг ее позиций к центру. И сейчас по некоторым проблемам обе партии более или менее согласны. С некоторыми оговорками эти проблемы можно перечислить:
- необходимость укрепления границ, ужесточения иммиграционного законодательства;
- увеличение производства энергоносителей в США (оно уже находится на рекордном уровне и будет расти дальше);
- отказ от жесткого регулирования разработок в области искусственного интеллекта;
- поддержка и стимулирование американского производителя (двухпартийный консенсус 1990-х годов в пользу «свободной торговли» рухнул);
- стимулирование рождаемости и «укрепление семьи» через налоговые льготы;
- отказ от федерального запрета на аборты и от ограничений экстракорпорального оплодотворения;
- снижение внимания к проблеме дефицита федерального бюджета (поскольку решение не просматривается, политики перестали ее бередить);
- гарантированное финансирование программ пенсионного и медицинского страхования для пожилых;
- отмена налогов на чаевые (мелкий, казалось бы, вопрос, но выгода для миллионов скромных и неутомимых тружеников сферы обслуживания очевидна: чаевые в США очень высокие, и часто ненавязчиво «рекомендуются» прямо в чеке, который приносит вам официант, — от пятнадцати до тридцати процентов).
Во внешней политике:
- более жесткая линия в отношении Китая;
- практически безоговорочная поддержка Израиля.
Так что в каких-то областях если не двухпартийный консенсус, то некоторое сближение позиций происходит. Но настрой Трампа все-таки на ежедневную беспощадную борьбу, особенно на внутриполитическом фронте. Здесь уже намечаются противоречия между избранным президентом и некоторыми его cоветниками. Так, за пару дней до выборов сопредседатель переходной команды Трампа Хауард Лутник утверждал, что Роберт Кеннеди-младший ни в коем случае не будет министром здравоохранения. Кеннеди — племянник президента Джона Кеннеди, начинал с экологии, потом превратился в борца с вакцинами и конспиролога. А через несколько дней после выборов Трамп выдвигает Кеннеди на пост министра здравоохранения. Есть сомнения в том, наберет ли он достаточно голосов для утверждения Сенатом, но решение избранного президента — вызов и сенаторам, и советникам, и недвусмысленная декларация: я здесь хозяин, я принимаю решения.
В «машине клоунов», которую будущий руководитель президентского аппарата Сьюзи Уайлс обещала не пустить в Белый дом, появились и другие красочные фигуры. «Пощечиной общественному вкусу» стало выдвижение кандидатуры 42-летнего конгрессмена из Флориды Матта Гейтца на пост министра юстиции. На счету Гейтца — скандалы, связанные с наркотиками, сексом с несовершеннолетними девочками и торговлей детьми. Из них он выкрутился, но несколько сенаторов-республиканцев аккуратно дали понять, что вряд ли проголосуют за утверждение его кандидатуры. И он по трезвом размышлении снял ее, «чтобы не отвлекать внимание от главного».
Думаю, по реакции на первые шаги избранного президента можно сделать вывод, что предстоящие четыре года будут отмечены не только острой межпартийной борьбой, но и противоречиями внутри администрации и между двумя основными течениями Республиканской партии — «новыми людьми», которых привел в ее ряды Трамп, и традиционными, более умеренными республиканцами. Последние, хоть и не желают попасть под горячую руку Трампа, будут, как мне кажется, проявлять всё большую самостоятельность.

Дональд Трамп. Фото: AP / TASS
Непредсказуемость американской политики — ее константа. Даже внутри одного президентского срока она складывается как равнодействующая множества факторов, давления многих сил и людей. И, что не менее важно, личности самого президента.
Личные особенности Трампа будут влиять на политику больше, чем влияла личность его предшественников. Здесь, я думаю, главный источник непредсказуемости.
Будущий президент капризен, часто зависим от случайных впечатлений, от того, кто последним зайдет в его кабинет, кто ему нравится, а кто нет, кто предъявит самые убедительные доказательства своей лояльности. Он по натуре — «возмутитель спокойствия», любит хаос и часто намеренно создает его, устраивая друзьям и противникам своего рода проверку на дорогах. Трамп не прощает тех, кто переходит некую черту, «красную линию», которую определяет только он сам. Через несколько дней после избрания он «поблагодарил» своих бывших соратников Ники Хейли и Майка Помпео, которые в свое время служили ему верой и правдой, лаконично сообщив, что их не будет в его администрации.
Трамп не любит компромиссов, он всегда должен объявить о своей победе. Хотя его бестселлер назывался «Искусство сделки», более адекватным названием было бы, наверное, «Искусство навязывания своей воли». В реальном мире это далеко не всегда работает, и это еще один фактор непредсказуемости событий, за которыми нам предстоит наблюдать.
И, наконец, отдельное исследование можно посвятить месту Илона Маска. Не стоит преувеличивать роль самого богатого человека в мире в победе Дональда Трампа, но он помог — и деньгами, и харизмой, и добрым словом. Может быть, даже слишком выделялся. И сейчас невозможно предсказать, как будут складываться отношения новых друзей в предстоящие четыре года. Выскажу предположение: сложно.
И последняя тема. Извивы внутренней политики США, вполне естественно, интересуют граждан других стран в гораздо меньшей степени, чем перспективы внешней политики США на предстоящие четыре года. Здесь предсказуемости еще меньше, чем во внутренних делах. Ясно одно —
Трамп хочет остаться в истории миротворцем, желательно награжденным Нобелевской премией.
И этим желанием — и перечисленными выше свойствами его натуры — будут во многом определяться его внешнеполитические шаги. Судя по опыту его первого президентства, его внимание будет перескакивать с одной проблемы на другую, и главным своим рычагом он будет считать личные отношения с мировыми лидерами. Трамп глубоко верит в свою способность убеждать и договариваться. Но при этом понимает и ценит роль профессионалов внешней политики. Из всех государственных ведомств у него, пожалуй, меньше всего претензий именно к госдепартаменту. На пост госсекретаря он выдвинул человека истеблишмента — сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Сын кубинских иммигрантов, Рубио соперничал с Трампом на республиканских праймериз, но, видимо, красных линий не переходил и ни в чем перед Трампом не провинился. Единственный возможный источник трений между ним и Трампом — поддержка, которую Рубио оказывал всем «вечным войнам» последних десятилетий, которые резко критиковал в последние годы избранный президент. Но в целом к своей будущей работе Рубио готов.
В отношениях с Россией Трамп, как и в первый президентский срок, будет делать ставку на взаимную симпатию с президентом Путиным. Обоим, как мне кажется, не очень приятно вспоминать о невеселых итогах российско-американского взаимодействия в 2017–2021 гг., но опыт, в том числе негативный, — великая вещь. Сейчас позиции двух стран буквально по всем вопросам разделяет пропасть. Но можно попробовать сдвинуть с места переговоры о ядерных вооружениях. Они очень чувствительны к общему политическому контексту, но они же могут помочь изменить его.
Россия заявила, что в нынешних условиях переговоры с США по стратегической стабильности «невозможны по определению». Проще говоря, невозможны до тех пор, пока США не изменят свою позицию по Украине. А радикальные изменения здесь, на мой взгляд, вряд ли возможны. Видимо, Россия в данный момент действительно не очень заинтересована в скорейшем возобновлении переговоров и предпочитает выжидательную позицию. Но это может измениться. Так бывало в прошлом. Можно придумать для переговоров какое-то другое название. Можно вести их без намерения заключить официальное соглашение, а с прицелом на какую-то неформальную договоренность. Так или иначе, трудно себе представить, чтобы лидеры двух стран не попытались как-то выправить отношения. Обязательно попытаются — это в интересах обоих. Но дальше — все та же непредсказуемость, в том числе связанная с чертами характера двух лидеров. В них можно найти немало общего, но это скорее затруднит достижение результатов, чем облегчит переговоры.
Предстоящие нам четыре года будут непредсказуемыми, быстротекущими, опасными, но интересными.