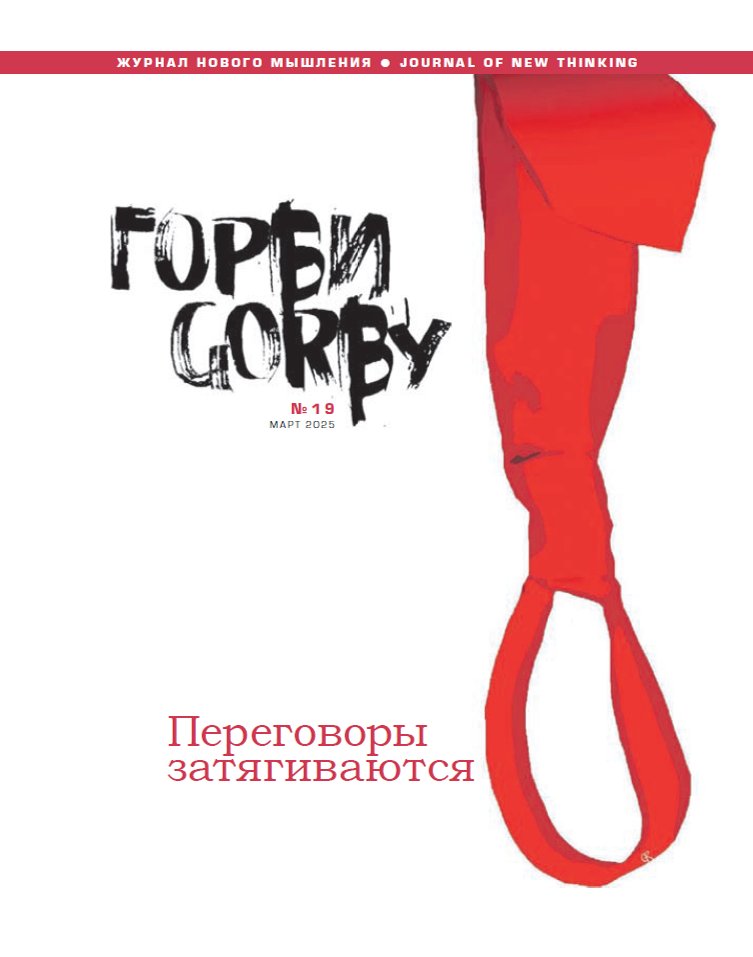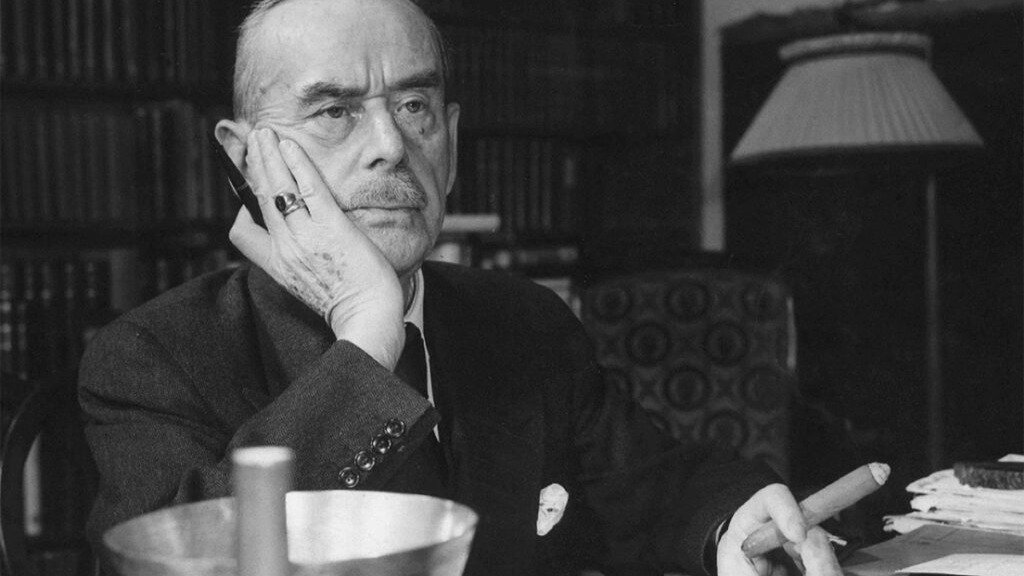
Томас Манн. Фото: EFE Archivo
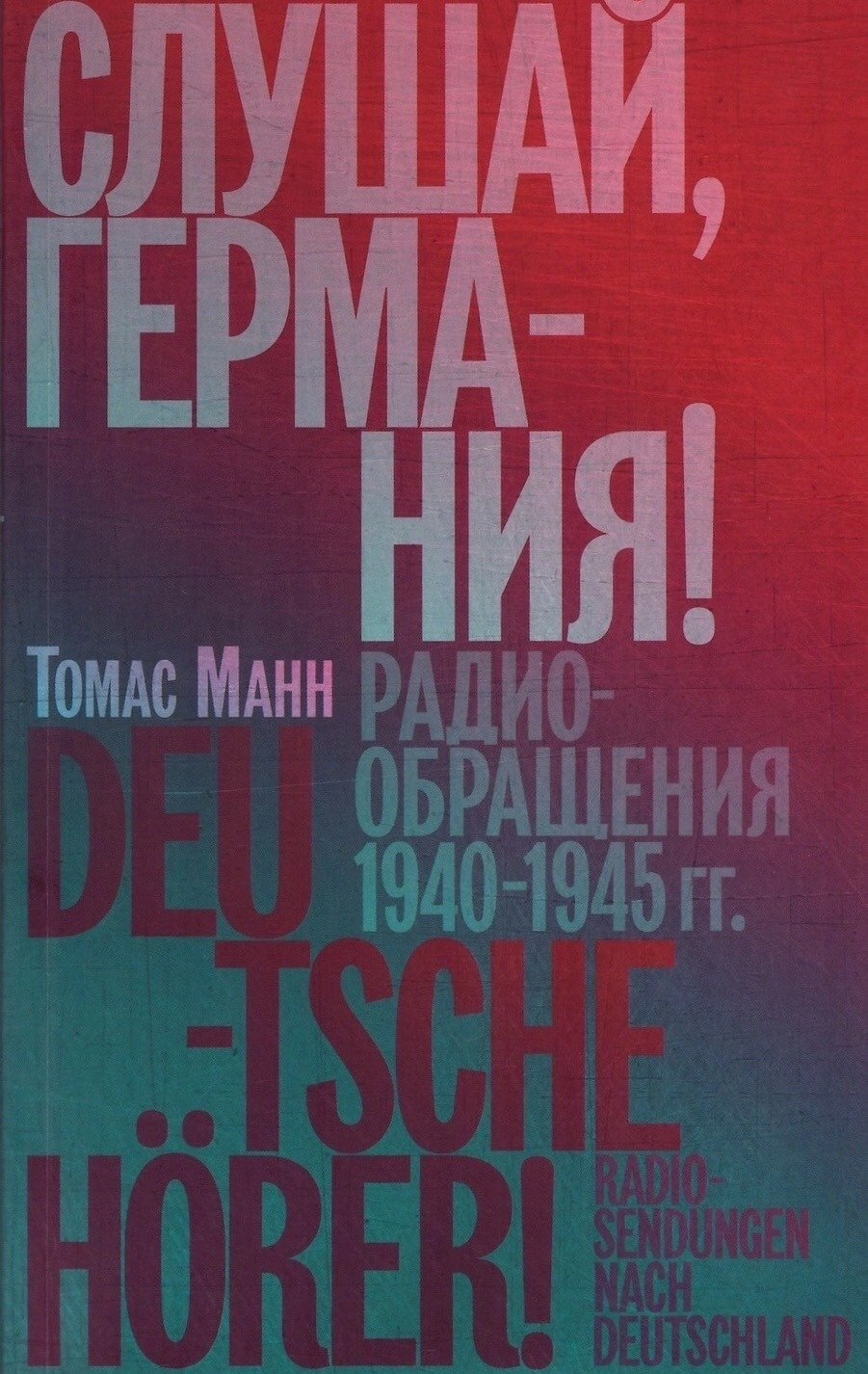
Совершенно шокирующее впечатление оставляет сравнение текстов великого немецкого писателя Томаса Манна, написанных в годы Первой и Второй мировых войн. Сегодня мы получили на русском языке его знаменитые радиообращения к немецким слушателям по BBC (Манн Т. Слушай Германия! Радиообращения 1940–1945. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2024). Если не полениться и сравнить с тем, что Томас Манн писал для немецких читателей в 1914–1918 годах (Манн Т. Размышления аполитичного. М.: АСТ, 2015), то создается впечатление, что за четверть века сформировался совершенно иной человек. «Аполитичный» Томас Манн мыслил вполне в духе националистического интеллектуального мейнстрима, сложившегося в Германии со времен берлинских «Речей к немецкой нации» Фихте, прочитанных зимой 1807–1808 годов. Политизировавшийся и пересмотревший свои старые наивные взгляды, Томас Манн мыслил как истинный европейский гуманист. Фактически он сам разоблачил себя как «доморощенного философа» и преподал нам тем самым серьезный урок:
можно играть в национализм, пока жареный петух не клюнет, но затем приходится быстро взрослеть и профессионально осмысливать события.
Это сравнение я провожу не для разоблачения моего любимого писателя. Скорее, наоборот, хочется подчеркнуть, что осознание опасностей тоталитаризма даже к великим людям может приходить поздно. Важно, что оно все же приходит. И важно, что в едином антифашистском строю в Германии стояли и те, кто, как Генрих Манн, были гуманистами с самого начала, так и те, кто, как его младший брат Томас, быстро созревали творчески, но медленно взрослели граждански.
Написано в годы первой мировой
Важно, что немецкий человек, пусть он хоть объестся «демократией», никогда ни за что не будет «регулировать» жизнь при помощи «продуманных учреждений» бульварного моралиста. Никогда не будет под «жизнью» понимать общество, никогда не поставит социальную проблему выше нравственного внутреннего опыта. Мы не общественный народ, не Клондайк для праздношатающихся психологов.
В своей добродушной аполитичной человечности мы все грезили, что возможны «понимание», дружба, мир, добрососедство, мы и помыслить не могли, лишь с началом войны с ужасом и содроганием поняли, как они нас (а не мы их!) все это время ненавидели, и не столько из-за экономической мощи, а политически, и куда ядовитее. Мы и думать не думали, что под покровом мирных международных сношений в безбрежном мире свое проклятое дело делала ненависть, неистребимая, смертельная ненависть политической демократии, масонско-республиканского ритора-буржуа образца 1789 года, ненависть к нам, к нашему государственному устройству, к нашему духовному милитаризму, к духу порядка, авторитета и долга.
Виновата в сегодняшнем состоянии Европы, в ее анархии, в борьбе всех против всех, в этой войне националистическая демократия. <…> Демократия реакционна, поскольку националистична и напрочь лишена европейской совести.
Каков немецкий народ, когда приходится в трудную для отечества минуту встать в строй, мы видели в начале августа 1914 года: хочется верить, прекрасен, как никакой другой.
Написано в годы второй мировой
Демократия в наши дни находится под угрозой. <…> Нужно, чтобы демократия ответила на эти фашистские спекуляции переоткрытием себя самой, которое способно придать ей не меньшую, а на деле куда большую привлекательность новизны… В действительности невозможно переоценить ее витальность, ее ресурс омоложения, рядом с которым юношеский задор фашизма окажется не более чем гримасой.
Что же мы получим на выходе из этой войны? Это начало объединения мира, создание нового баланса свободы и равенства, сохранение индивидуальных ценностей в рамках требований коллективной жизни, демонтаж суверенитета национальных государств и построения свободных, но ответственных перед другими народов, обладающих равными правами и равными обязанностями. Народы созрели для такого нового мирового порядка. <…> Германии никогда не бывать счастливее, чем внутри напитанного свободой и деполитизированного единого мира. Для такого мира Германия прямо-таки создана, меж тем как если глобальная политика и бывала для какого-нибудь народа проклятием, так это для аполитичной немецкой нации.
Поверьте мне, свобода все еще существует — невзирая ни на какую болтовню доморощенных философов и ни на какие капризы истории духа, она всегда будет тем же, чем была две тысячи с небольшим лет назад — светом и душой Запада.
Истоком Первой мировой войны было завистливое сумасбродство, ну а истоком второй было то, что не назовешь иначе чем пародией на это сумасбродство.
Вслед за «Историей одного немца»
Сегодня мы можем много узнать из новых книг не только о Томасе Манне. Одним из самых заметных и важных явлений на книжном рынке стало за последние пару лет появление большого объема переводной литературы, посвященной истории Германии середины прошлого столетия. Быстро сформировался устойчивый спрос российского читателя на изучение разных аспектов функционирования страшного тоталитарного режима, и многие издательства откликнулись на него.
Нельзя сказать, что эта тема раньше нас мало интересовала. Публиковались, конечно, профессионально написанные научно-популярные биографии Адольфа Гитлера (Иоахим Фест, Вернер Мазер, Алан Буллок). Издавались классические мемуары и дневники (Альберт Шпеер, Уильям Ширер). Само собой, книжные магазины всегда были переполнены самыми разными трудами по военной истории — как качественными исследованиями, так и халтурными поделками, существующими для развлечения взрослых мальчиков, не наигравшихся в детстве в войнушку. Но сейчас структура предложения изменилась. Наряду с книгами для развлечения широких инфантильных масс и для расширения кругозора небольшого числа интеллектуалов появляются книги о жизни простых немцев, о том, почему они стали поддерживать нацизм, как формировался их конформизм, как выживали они в отвратительной тоталитарной среде и как осуществлялась после войны та денацификация, о которой мы много слышали, но толком почти ничего не знали.
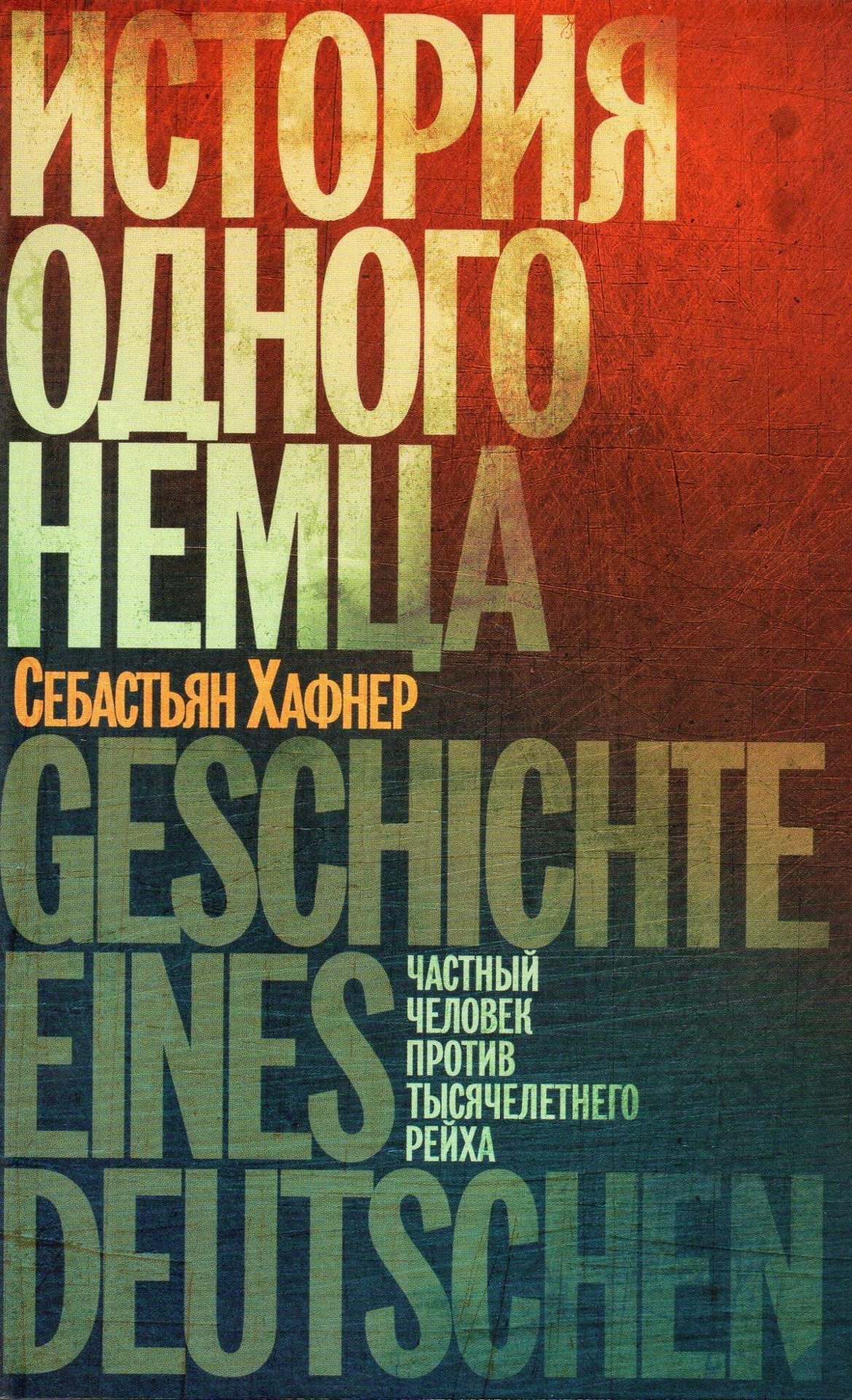
Как часто бывает, перелом на рынке произошел случайно. Причем за несколько лет до того момента, когда новая структура спроса стала формироваться по важным объективным причинам. Прорыв к новой тематике произошел в связи с появлением перевода книги Себастьяна Хафнера «История одного немца: Частный человек против тысячелетнего рейха» (СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016).
Переводчик этой книги и инициатор ее издания Никита Елисеев, работавший библиографом в Российской национальной библиотеке, рассказывал мне, когда я в очередной раз оторвался от работы над книгами в читальном зале, что долго искал издателя, но сталкивался с полным отсутствием интереса к воспоминаниям антифашиста. Издатели не понимали своего рынка, но,
когда «История одного немца» все же появилась на прилавках, книга моментально стала бестселлером.
За ней последовали размышления автора про фюрера (Хафнер С. Некто Гитлер: Политика преступления. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018). А затем — целая «немецкая серия», подготовленная тем же издательством.
В первую очередь среди книг этой серии следует выделить «Немецкую катастрофу. Размышления и воспоминания» выдающегося историка Фридриха Мейнеке (СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2024). На руинах своей страны и своей жизни историк Мейнеке, как и многие его соотечественники, размышлял в 1946 году о том, был ли гитлеризм закономерным следствием немецкой истории и культуры, или результатом стечения ряда неблагоприятных обстоятельств.
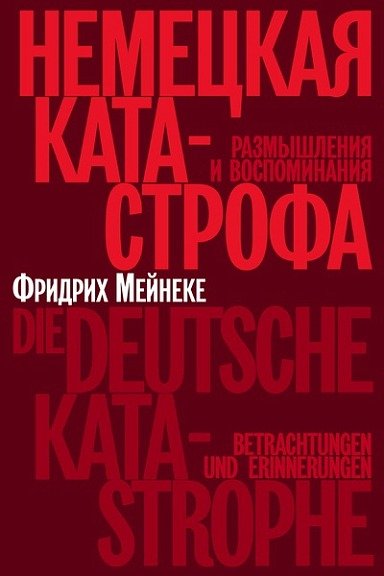
«Если все должно было свершиться так, как свершилось, то нынешняя ужасная катастрофа способна сломить волю к дальнейшей жизни и деятельности. Такой мрачный фатализм способен сковать энергию тех, кто должен действовать. Такова практическая сторона проблемы. Ее теоретическая сторона, однако, требует, чтобы мы не упускали из виду фактор свободы, то есть возможность действовать иначе, чем было в реальности. Если мы признаем существование такой возможности, если допустим, что приход Гитлера к власти можно было предотвратить, то тем самым уменьшим долю вины немецкого народа в этих событиях».
Мейнеке, несмотря на преклонный возраст, написал книгу, в которой, не приукрашивая истории, показал, что гитлеризм не был все же ею жестко детерминирован, и, значит, Германия не является уродом в семье европейских народов. А немцы, преодолев «мрачный фатализм», смогли построить новую Германию, доказав, что в нормальных условиях они могут стать одним из самых успешных, демократичных и толерантных народов Европы.
Мейнеке на два поколения старше Хафнера. Он глядит на свою страну иными глазами и подвергает анализу иные стороны немецкой жизни. Думается, эти книги хорошо дополняют друг друга. «Немецкая катастрофа» может рассматриваться в качестве своеобразного приквела к «Истории одного немца». Мейнеке показывает, что случилось со страной Гёте в XIX веке, как подошла она в двадцатом столетии к роковой черте и по каким причинам пересекла ее, хоть и могла пройти по краю пропасти.
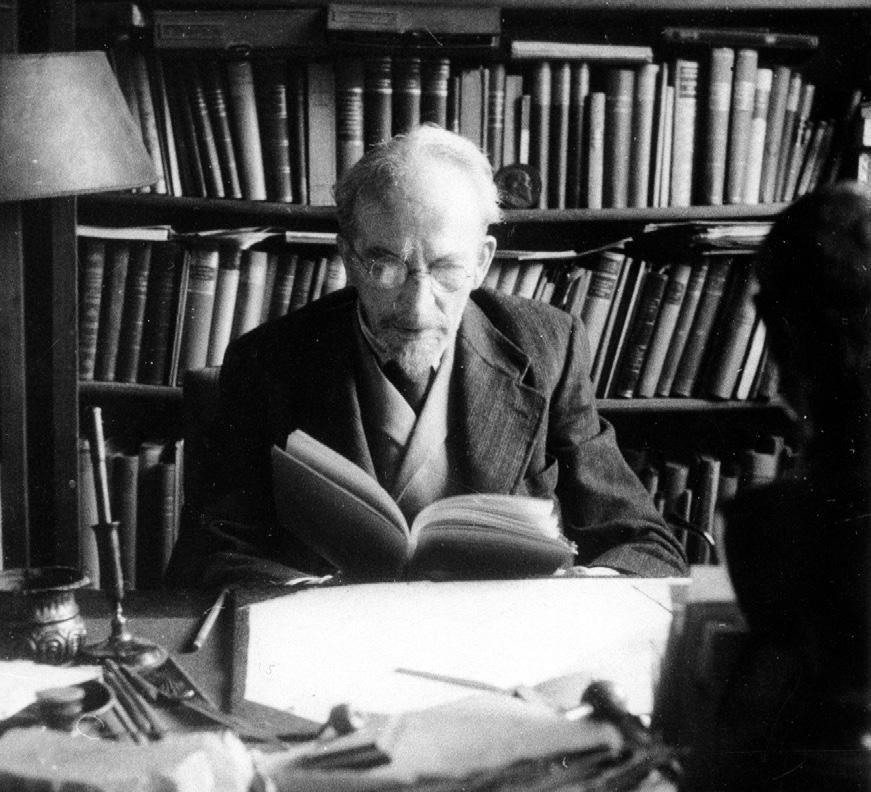
Фридрих Мейнеке. Фото: Fritz Eschen
Немецкая осень
Честно признаюсь, когда-то я полагал, будто поражение во Второй мировой войне отучило немцев от склонности к нацизму и авторитаризму. Мол, проигравшие должны были размышлять рационально: раз Гитлер довел нас до катастрофы, значит, гитлеризм порочен. Книга «Немецкая осень» (СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2023) шведского журналиста Стига Дагермана, посетившего разгромленную Германию в 1946 году, полностью опровергает мои вчерашние воззрения. Немцы действительно вели себя вполне рационально, но рассуждали несколько по-иному: если при Гитлере жилось сытно, значит, гитлеризм хорош, а если сейчас мы живем не сытно, значит, стало хуже, чем при Гитлере. Дагерман ходил по домам, встречался с людьми, расспрашивал их и делал соответствующие выводы.
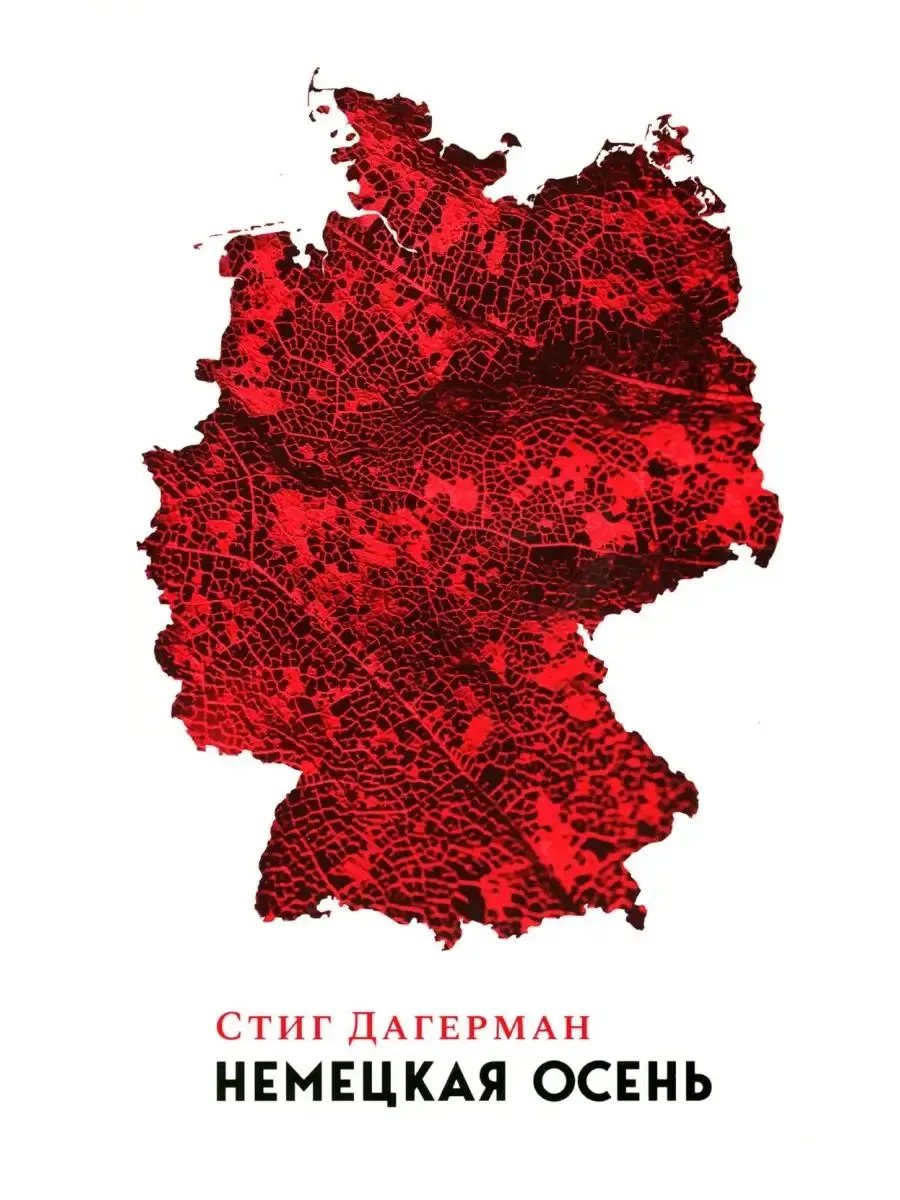
«Голод не предполагает поиска причинно-следственных связей, разве что самых поверхностных, — пишет журналист и дальше продолжает: — Если люди живут на грани голода, то борются они в первую очередь не за демократию, а за то, чтобы отодвинуться от этой грани как можно дальше». Даже евреи вели себя в послевоенной Германии весьма рационально, поскольку, не умерев при нацистах от Холокоста, стремились теперь не умереть от голода: за 200 марок некоторые из них готовы были на суде над нацистами давать показания, что подсудимый нацистом не является и всегда дружелюбно относился к евреям.
Историко-экономические исследования, которыми я занимался еще до того, как прочел книгу Дагермана, показывают, что народом, склонным к демократии, западные немцы стали на волне мощного экономического подъема, случившегося после рыночной реформы Людвига Эрхарда в 1950-е годы, а вовсе не благодаря поражению в войне. Это, кстати, вполне соответствует исследованиям социологов Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцля, показавших, что лишь общество, сумевшее обеспечить свое выживание (безопасность, потребление и т.д.), стремится к ценностям самовыражения, в том числе к демократии. Да и то смена ценностей происходит со сменой поколений, а не автоматически.
В общем, поражение в войне, голод, нищета, выплата репараций сами по себе могут породить лишь новую автократию. Демократию порождают сытость и безопасность. Эта мысль подтверждается и примерами из другой недавно изданной книги.
«Муж предпочитает быть дома, может часами спокойно сидеть в своей комнате или под деревом в саду. Работа его слишком изматывает, никакой социальной жизни, никакого активного досуга, кроме скота и сада. Он всегда ложится спать уже в восемь часов вечера. Работа слишком тяжелая, иногда муж засыпал от усталости во время еды».
Так описывала положение дел в своей семье типичная жена послевоенного рабочего в Западной Германии. Вполне возможно, что эта дама через год-другой тоже пошла работать, поскольку быстро расширявшиеся возможности потребления в ФРГ стимулировали трудовую активность женщин, расстававшихся с традиционной немецкой триадой «Kinder, Kuche, Kirche».
Никакой гражданской активности, никакого демократического строительства, никакого интереса к политике. Жизнь простого человека — это реакция на уникальные возможности работы в условиях социального рыночного хозяйства, предоставленные реформой Людвига Эрхарда. Труд до седьмого пота ради восстановления разрушенного войной хозяйства, ради собственного благосостояния и ради обретения «мещанского уюта у теплой печки», как тогда называл это популярный журнал. Редкая гражданская активность широких масс проявлялась лишь в акциях, направленных против денацификации, пугавшей слишком многих немцев, так или иначе связанных в прошлом с гитлеровским режимом. Такой образ Германии встает со страниц недавно появившегося двухтомника историка Ульриха Херберта «История Германии в ХХ веке» (М.: Новое литературное обозрение, 2024).
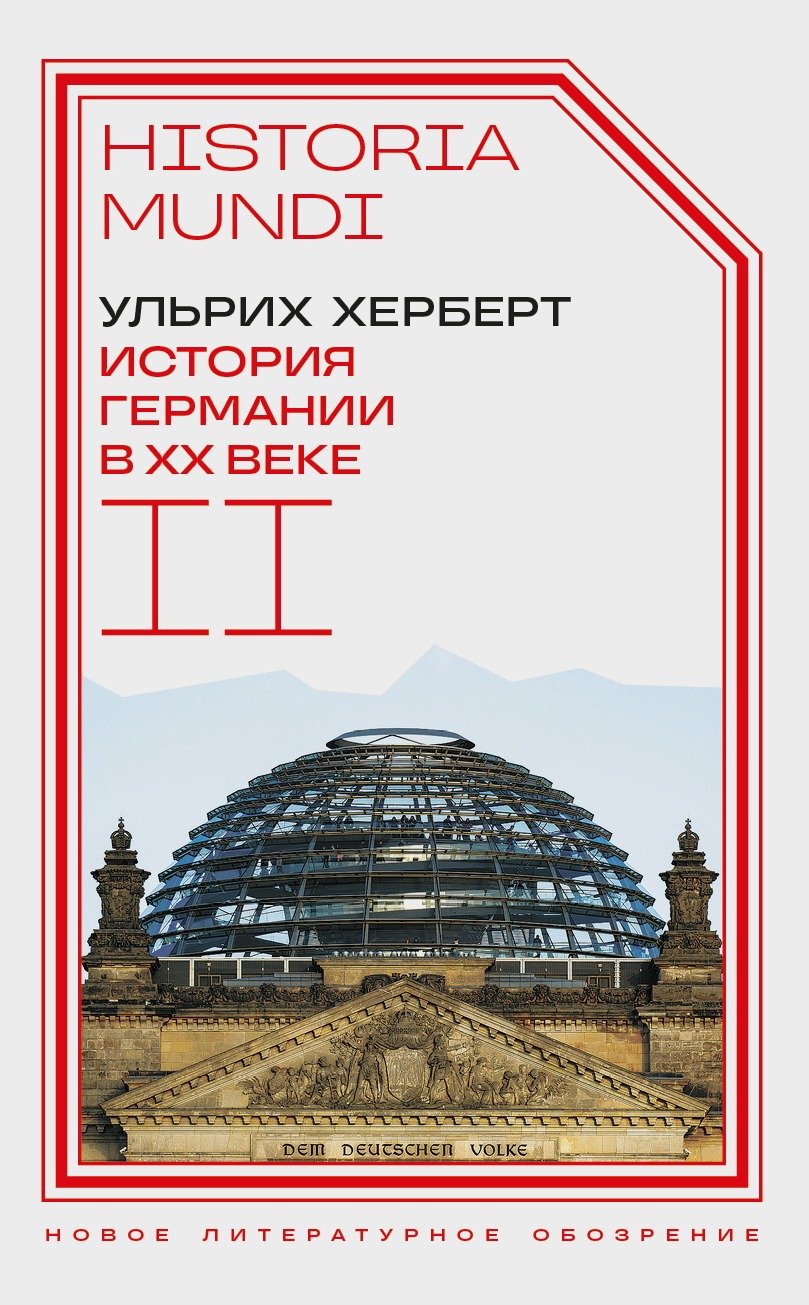
Нам трудно свыкнуться с мыслью о том, что демократия формировалась в основном не благодаря деятельности миллионов убежденных активистов, готовых в любой момент слезть с теплой печки и бежать на митинг или демонстрацию, а благодаря работягам, которые думали о строительстве своего дома, своей семьи, своего мещанского быта. Но, кажется, те образцы серьезной научной и публицистической литературы, которые в последние годы появились на книжных прилавках, все чаще наводят на такую мысль. Это не значит, конечно, что демократия появляется сама собой. Убежденные демократы в элитах, такие как Конрад Аденауэр, тоже трудились до седьмого пота, решая свои задачи. Но следует, видимо, осознать, что элиты и массы по-разному участвуют в демократизации.
Чем больше нацизма — тем меньше нации
Чем больше нацизма — тем меньше нации. Так можно выразить важнейшую мысль книги Харольда Йенера «Волчье время. Германия и немцы: 1945–1955» (М.: Individuum, 2024). Рассказывая о послевоенном времени, автор демонстрирует на множестве примеров удивительную картину: не было, наверное, в Европе тогда более атомизированной, расколотой, трайбализированной нации, живущей по принципу «Человек человеку — волк», чем «сплоченная фюрером» нация немецкая. Национализм, основанный на принципе «бей евреев (русских, поляков, украинцев и т.д.), спасай Германию», ничего не дает для строительства нации, однако когда бить оказывается некого и обостряется внутренний кризис (экономический, моральный, демографический), немцы начинают активно противостоять друг другу.
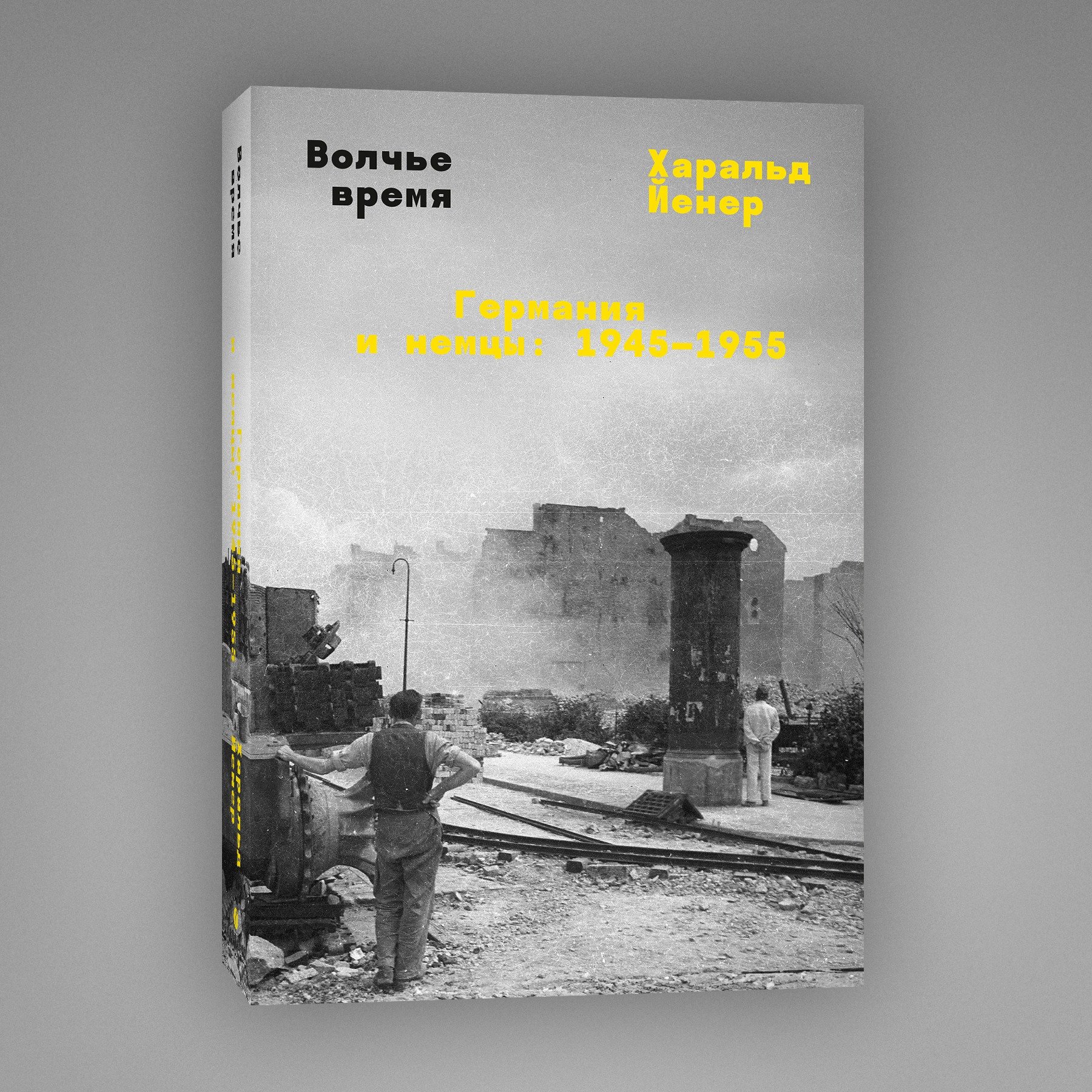
Целые главы книги посвящены тому, как крестьяне уцелевших после бомбежек регионов ненавидят «понаехавших тут» бездомных горожан; как мародерствуют нищие «сверхчеловеки»; как женщины ради спасения от убийц и насильников отдаются под покровительство «недочеловеков»; как воры крадут у мародеров имущество, нажитое «непосильным трудом»; как кельнский кардинал оправдывает воровство, несмотря на библейскую заповедь «не укради»; как жены презирают своих вернувшихся с фронта или из плена жалких, униженных мужей, а те, к кому не вернулись, отыскивают себе нищего мужичка из «понаехавших», чтобы хоть какой-то в семье имелся. Выясняется, что
под воздействием новых институтов (правил игры), основанных на принципе «Человек человеку — волк», вековая немецкая, европейская культура, основанная вроде бы на принципе нерушимости собственности, моментально исчезает.
Формируется поколение воров, мародеров и циников, не соблюдающих никаких моральных норм. Но, и это самое интересное в книге, тут же немецкая нация, уничтоженная возвеличившим ее нацизмом, возрождается через… черный рынок. Автор проводит парадоксальную мысль: именно черный рынок стал для молодого поколения немцев школой гражданственности, поскольку, в отличие от нацизма, учил не убивать слабого, а договариваться на взаимовыгодных условиях с партнером, которого ты, может быть, ненавидишь, но при этом вынужден уважать. В условиях экономического чуда 1950–1960-х годов оказалось, что поколение воров, мародеров и циников стало самым трудолюбивым, дисциплинированным и законопослушным поколением немцев, построившим, наконец, демократию.
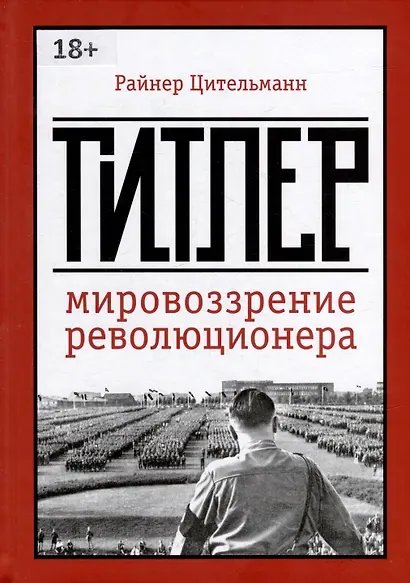
Еще один перелом в наши давно сложившиеся представления о германском нацизме вносит книга Райнера Цительманна «Гитлер: мировоззрение революционера» (М.; Челябинск: Социум, 2024). Хорошо помню, что более сорока лет назад, когда я был еще студентом и специализировался на изучении капиталистической экономики, профессора учили нас, что фашизм — это разновидность капитализма, наиболее агрессивная, антинародная и направленная на защиту этого социального строя от наступления революционеров. Нетрудно понять, почему подобная интерпретация была характерна для советского марксизма, защищавшего белые одежды мирового революционного движения от вымарывания их черной или коричневой краской.
Но, как выяснилось несколько лет назад, подобный подход, принципиально разводящий германский нацизм с революционной идеологией, был характерен для первых германских исследователей гитлеровской системы правления. Книга Фридриха Леопольда Нойманна «Бегемот: структура и практика национал-социализма. 1933–1944 гг.» (СПб: Владимир Даль, 2015), написанная немецким эмигрантом в США еще во время Второй мировой войны, основывалась на точно такой же методологии. Нойманн стремился убедить своих читателей в том, что, несмотря на высокую степень государственного регулирования экономики, гитлеровская система остается капиталистической, поскольку прибыли получают частные компании, и значит, сохраняется основной мотив капиталистического производства. На первый взгляд это представляется верным, но Цительманн, не вступая в полемику с Нойманном, предлагает совершенно иной подход. В своем огромном и досконально проведенном исследовании он показывает на основе множества текстов и речей Гитлера, что тот постоянно говорил о необходимости революционных изменений в Германии и проводил именно такие изменения на практике (интересно, что, скажем, в одной из самых известных биографий Гитлера прошлых лет — Мазер В. Адольф Гитлер. Минск: Попурри, 2004 — слово «революция» употребляется лишь однажды!).
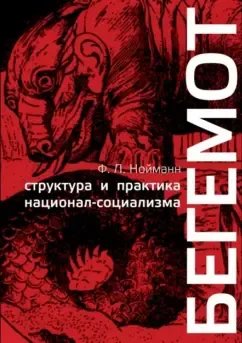
Гитлера не устраивал капитализм. Он был именно национал-социалистом. Название его партии точно отражает ее идеологию, хотя на деле, конечно, она вынуждена была использовать компромиссы с бизнесом ради поддержания эффективного военного производства. Более того, если мы прибегнем к экономическому анализу, выйдя за рамки обсуждаемых книг, то обнаружим, что государственное регулирование сильно меняет рыночные стимулы и, следовательно, под его воздействием капитализм революционизируется, несмотря на формальное сохранение частной собственности.
И, наконец, скажу об одной из самых известных, но в то же время спорных книг, изданной на Западе во второй половине ХХ века и только что переведенной у нас. Книгу английского историка Алана Тейлора «Истоки Второй мировой войны» (М.: Альпина нон-фикшн, 2025) можно было бы, наверное, выпустить под лозунгом «Это больше чем преступление. Это ошибка». Автор, опубликовавший свое исследование на родине в 1961 году, оспорил привычные объяснения причин войны, продемонстрировав, что дело было отнюдь не только в Адольфе Гитлере. Точнее, Тейлор не сомневался в том, что Гитлером проводилась преступная политика (и даже специально написал предисловие ко второму изданию, отвечая тем, кто упрекал его в выгораживании фюрера), но показал, что конкретная конфигурация военно-политических действий определялась еще и ошибками европейских политиков, неудачно пытавшихся избежать войны. Их суета создавала Гитлеру возможности. Предвоенные годы в изображении Тейлора — это настоящий хаос ошибочных действий, причем каждое из них случалось не по глупости акторов, а из-за ряда важных фундаментальных причин, уходящих корнями в историю.
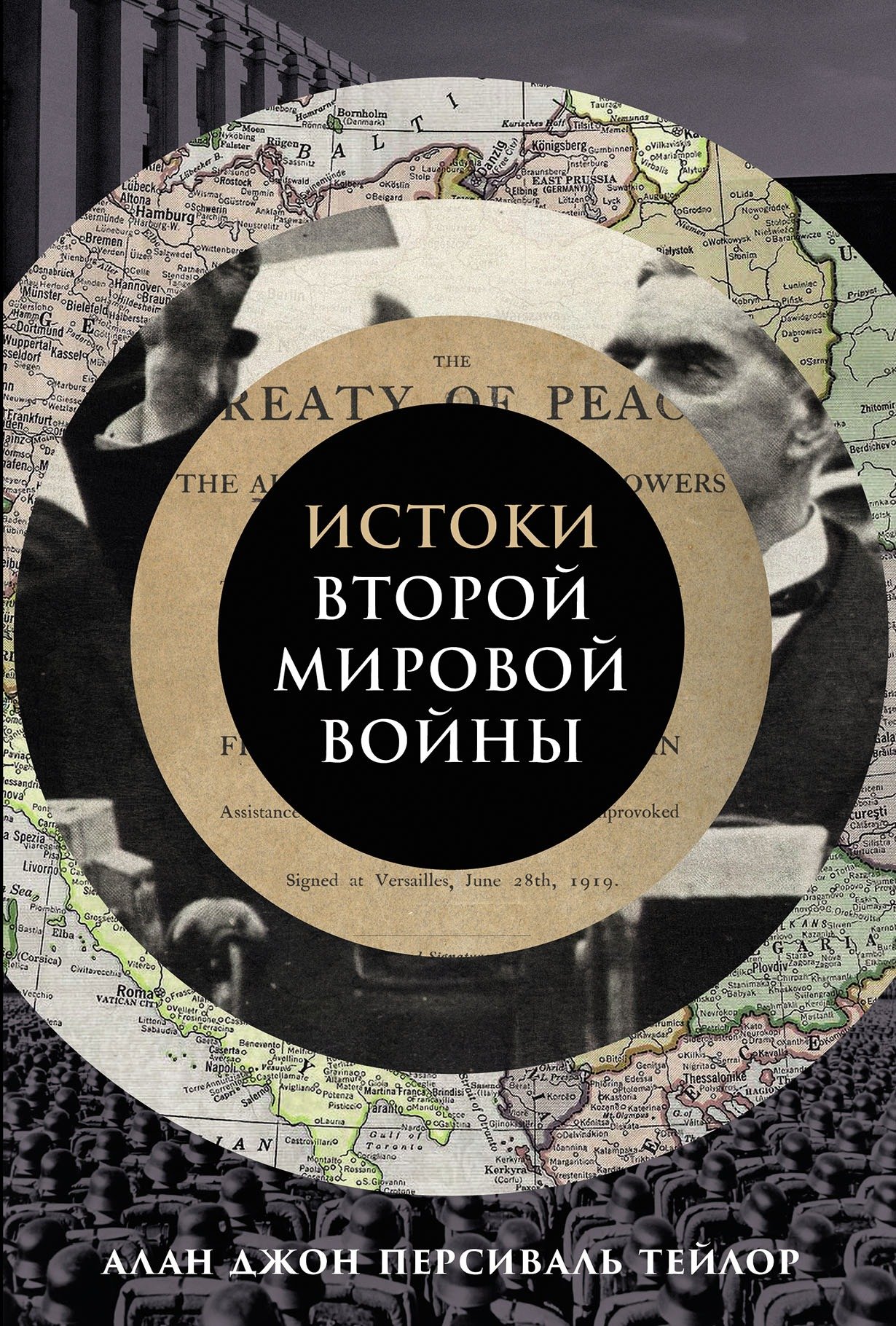
Британия на самом деле сочувствовала стремлению Гитлера собрать всех немцев в одном немецком государстве, поскольку это соответствовало высокоморальному принципу самоопределения наций, и коли уж свои государства появились у поляков, чехов и словаков, южных славян, румын, то почему же немцы не имеют права объединиться? Франция подобным моральным нормам не следовала, но опасалась ведения большой наступательной войны, а потому готова была лишь отсиживаться за линией Мажино, имитируя стремление помогать полякам. Польша считала себя великой державой, а потому слишком надеялась на себя, отказываясь прибегать к помощи СССР в возможной войне с Германией. Чехословакия, имевшая в 1938 году армию, ненамного уступавшую германской, предпочла не подвергать свой маленький народ угрозе истребления и быстро капитулировала. Если бы действия этих стран оказались иными, то, по мнению Тейлора, и картина войны была бы иной, что бы там ни говорил Гитлер насчет необходимости жизненного пространства для Германии.
Не берусь оценивать историческую конкретику Тейлора, но сама мысль о том, что добросовестные ошибки могут больше влиять на конечный трагический результат, чем даже намеренные преступные действия, заслуживает серьезного внимания.
Дмитрий Травин