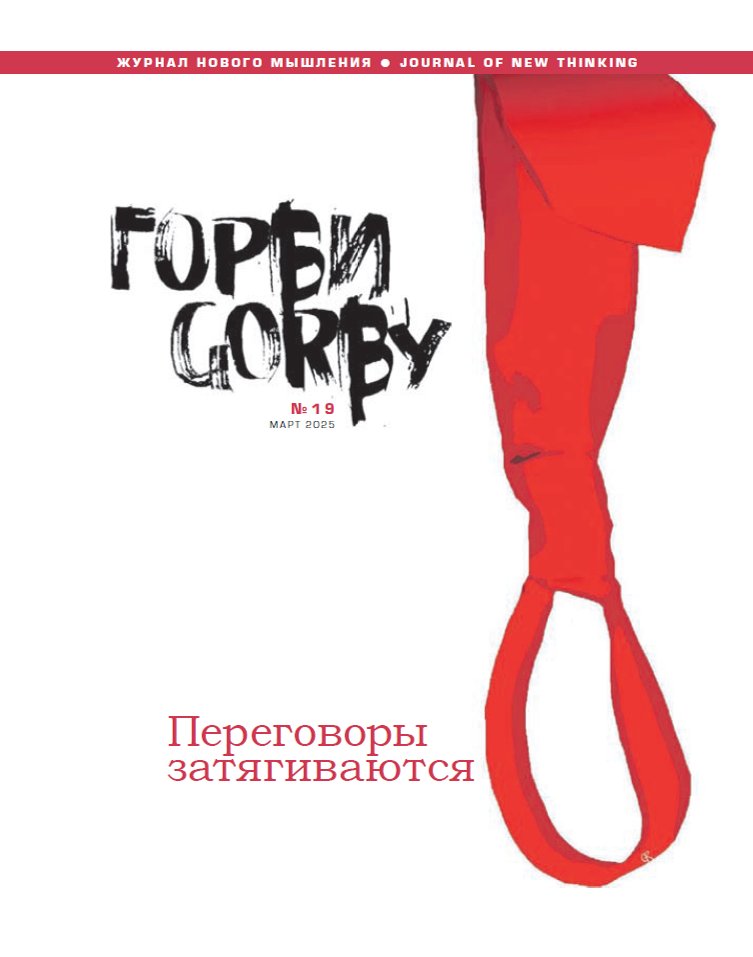Кадр из фильма «Жмурки»
Какое влияние на театр и моду оказал петух, чем пахли духи Льва Толстого, почему рога в костюме шутов заменили ослиные уши, зачем Чуковский придумал для поэтов-футуристов термин «свинофилы» и многое-многое другое, расширяющее наши представления о мире, знает историк моды Марина Скульская. Ее книги «Мода. Самое человечное из искусств», «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра», «Мода и театр. От охотничьих плясок до фэшн-шоу», «История нижнего белья. От набедренной повязки до мини-юбки» полны красок, запахов, стихов, красоты и роскоши. Исторические анекдоты здесь соседствуют с научными выкладками, древние обычаи объясняют сегодняшнюю реальность.
Сегодня она рассказывает о символике цветовых нюансов, объясняя, почему именно малиновые пиджаки стали необходимым удостоверением силы и богатства «новых русских» в 90-е годы.
В тот момент, когда она уже готова была закричать, с металлическим человеком произошла удивительная трансформация. Сначала на его сверкающих ляжках появились полосатые трусы очень домашнего вида, потом белая майка, затем его тело приобрело нормальный цвет загорелой человеческой кожи и сразу же вслед за этим облеклось в канареечные брюки, рубашку с полосатым галстуком и дивной красоты малиновый двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Только тут Мария успокоилась.
Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота», 1996
Когда роман Пелевина вышел в свет, стиль «новых русских» уже клонился к закату. Борсетки (пухлые кожаные сумочки для денег и документов), «котлы» (часы Rolex) и «голды» (массивные золотые цепи, которые носили в том числе и под полупрозрачными черными сетчатыми футболками) еще долго не сдавали своих позиций, но малиновые пиджаки — пылающие знамена богатых и успешных — остались в прошлом.
Несколько драматических событий зимы 1991-го способствовали зарождению культа малиновых пиджаков: окончательный распад СССР, открытие границ, легализация валютных операций, показ весенне-летней коллекции Versace и введение униформы для лучших игроков «Что? Где? Когда?».
Свободная торговля открыла невероятные возможности для предприимчивых людей в мире бизнеса и криминала. Как и в другие времена, нуворишам хотелось громко заявить о стремительном взлете на вершину социальной иерархии, тем более что удержаться на этой вершине, сохранив капитал, свободу и жизнь, было практически невозможно. Малиновый пиджак в этом смысле был знаком бравады, позерства, мулетой тореадора, дразнящей быка.
Как раз в этот судьбоносный момент Владимир Ворошилов, автор, режиссер, блестящий ведущий «Что? Где? Когда?», решил преобразовать легендарную игру в «интеллектуальное казино» и ввел новое правило красного пиджака, которым награждали лучшего игрока, переходившего в разряд небожителей — «Бессмертных членов клуба». В те времена проигравшая команда навсегда выбывала из игры, но на «бессмертных» это правило не распространялось. Передачу смотрела вся страна, знатоки были настоящими звездами, и, несомненно, их стилю хотелось подражать. Манера их игры была свободной и дерзкой — в духе времени: в 1992-м Александр Друзь, Федор Двинятин и Алексей Блинов, капитан команды, поставили на кон помимо 25 000 выигрыша свои красные пиджаки и проиграли.
Советский человек привык к унылым цветам грусти и безысходности, а «новым русским» хотелось всего самого броского, чрезмерного, завидного. Но почему именно малиновый цвет стал символом преуспевания в новой России?

Александр Друзь и Максим Поташев во время съемок «Что? Где? Когда?». Фото: архив
Красный — один из главных сакральных цветов в истории мировой культуры, связанный с солнцем, жизнью, бессмертием. Его использовали в священных ритуалах, окрашивали им напитки, одежду, тело, предметы культа. Как минимум с XVI века до нашей эры красный считается символом роскоши. Лучший краситель изготавливали по крито-микенской технологии в городе Тир в Финикии, буквально: «стране пурпура», как называли ее древние греки.
Пурпур (лат. purpura, рус. «багрянка») добывали из раковин брюхоногих моллюсков. Плиний Старший в «Естественной истории» подробно описывает трудоемкий процесс получения самой дорогой краски древности: «Вылавливают багрянок при помощи особых маленьких кузовов с редким плетением, забрасывая их в открытое море. В такие кузова кладут в качестве приманки раковины, которые кусаются, сжимая свои створки». Красящее вещество с солью в течение десяти дней подогревают в свинцовых сосудах, снимая пенку. Затем состав процеживают и на пять дней «опускают в него отмытую шерсть, чтобы посмотреть, во что она окрасится, и до тех пор, пока краска не приобретет желаемый оттенок, жидкость продолжают подогревать. Алый цвет ценится меньше, чем темно-красный <…> Особенно ценится тирский пурпур цвета густой крови, когда он выглядит темно-красным, если смотреть прямо на поверхность окрашенной ткани, и блестит, если смотреть на нее сбоку, а потому и Гомер называет кровь «пурпурной».
Булгаков использует именно эту ассоциацию в «Мастере и Маргарите»: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
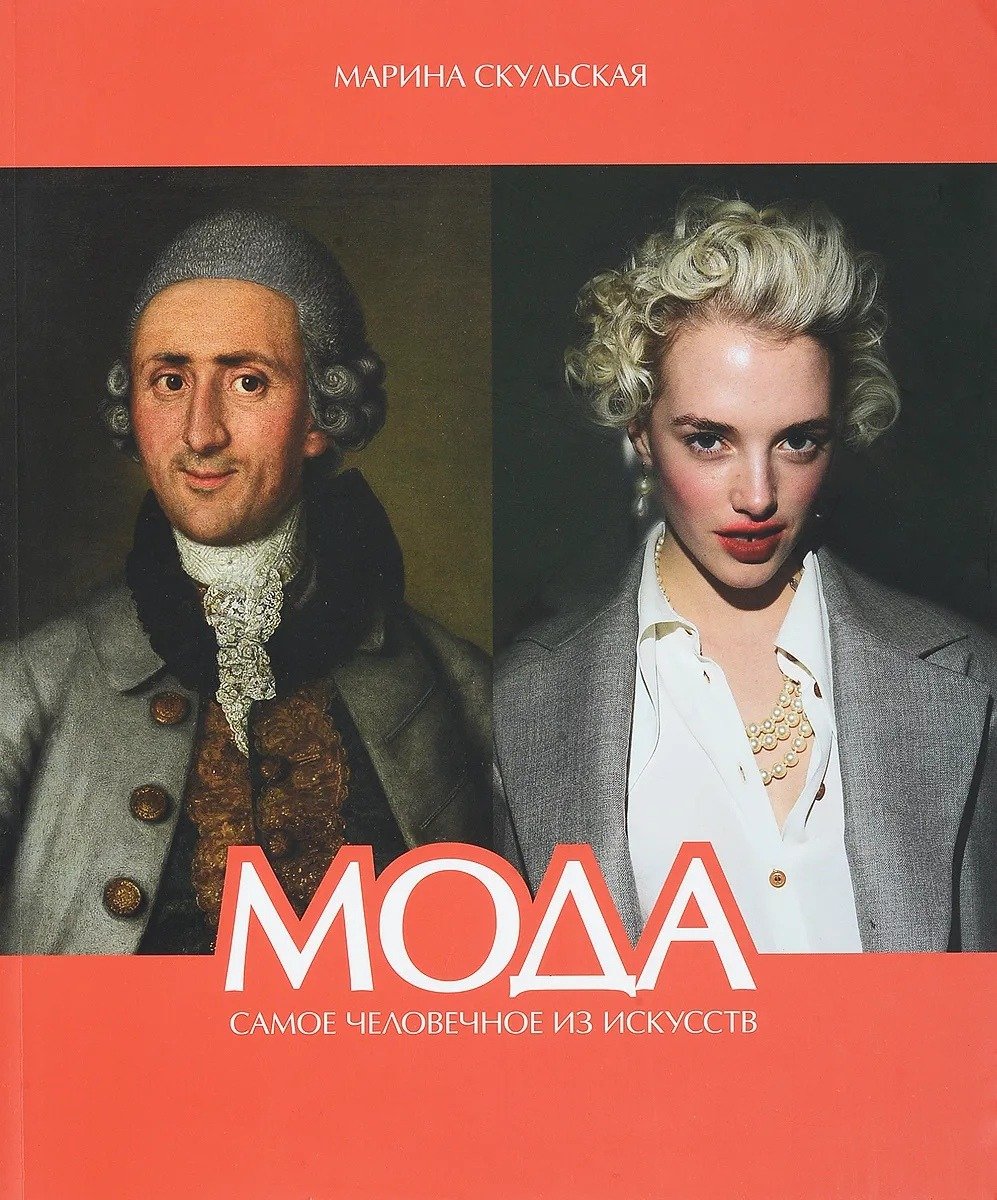
Красную подкладку для шинели выбирает в рассказе «Герой-барыня» (1884) Чехова несчастный генерал, которого разбивает паралич как раз после получения высокого звания: «Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой… Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх… Утешался, утешался как малый дитё, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать… Идет слепенький, седенький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана!» Приставили к нему вдову помогать, и она взяла, «стервоза, да и отпорола его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!»
Палитра пурпура могла варьироваться от черного до фиолетового, от темно-синего до вишневого. Для окраски 1 кг шерсти требовалось 200 г пурпура — это 3 кг красителя-сырца и примерно 30 тысяч раковин. Баснословную цену на пурпур также оправдывала его невероятная стойкость — цвет не выгорал на солнце и не тускнел после стирки. Самой шикарной считалась ткань, окрашенная дважды.
У Гомера в пурпурные мантии облачены Одиссей и царь Агамемнон; Пенелопа ждет супруга, «нити пурпурные тонко суча».
В Древнем Риме также любовались красотой пурпура, но наполнили его и новыми смыслами. Это цвет высокого социального статуса, доступный только мужчинам — гражданам Рима. Пурпурный плащ — привилегия императора. Пурпурная тога, расшитая золотом, — знак славы триумфатора. Тога с широкой пурпурной полосой — официальный наряд госслужащих: магистратов, судей, казначеев, сборщиков налогов. Сенаторов и всадников отличает еще и туника с двумя вертикальными пурпурными полосами, идущими от ворота.
«После смерти, лишенный всей роскоши, — пишет Лукиан о тиране, — он показался мне очень смешным, но еще больше смеялся я над самим собою, над тем, какие пустяки возбуждали мое удивление, как я измерял его счастье по запаху кушаний и считал счастливым на основании одежды, окрашенной кровью раковин из Лаконского залива».

Кадр из мини сериала «Мастер и Маргарита»
Множество «гордых» пурпурных одежд в «Энеиде» Вергилия. Златотканые плащи с пурпурным узором служат почетной наградой в состязаниях — подобно красным пиджакам «бессмертных» игроков «Что? Где? Когда?». Эпитеты пламенные: «Пурпуром тирским на нем шерстяная пылала накидка». У Гоголя есть похожие сравнения в повести «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы!»; и еще: «красные, как жар, шаровары». Юрий Тынянов в «Смерти Вазир-Мухтара» позволил себе историческую вольность: облачил Чаадаева в халат несуществующего цвета «московского пожара».
Древнеримскую пурпурную традицию наследовала Византия. В европейской культуре насыщенные оттенки красного полюбились королевским особам и знати, святым и кардиналам (цвет крови Христовой), военным и придворным.
Людовик XIV расширил сферу применения царственного цвета и ввел в моду обитые красным сафьяном каблуки, отсылавшие к пурпурным сапогам древнеримских и византийских императоров. Экстравагантная обувь канула в Лету вместе с «королем-солнцем», но выражение «красный каблук» еще два века оставалось в европейских языках для определения людей высокого полета.
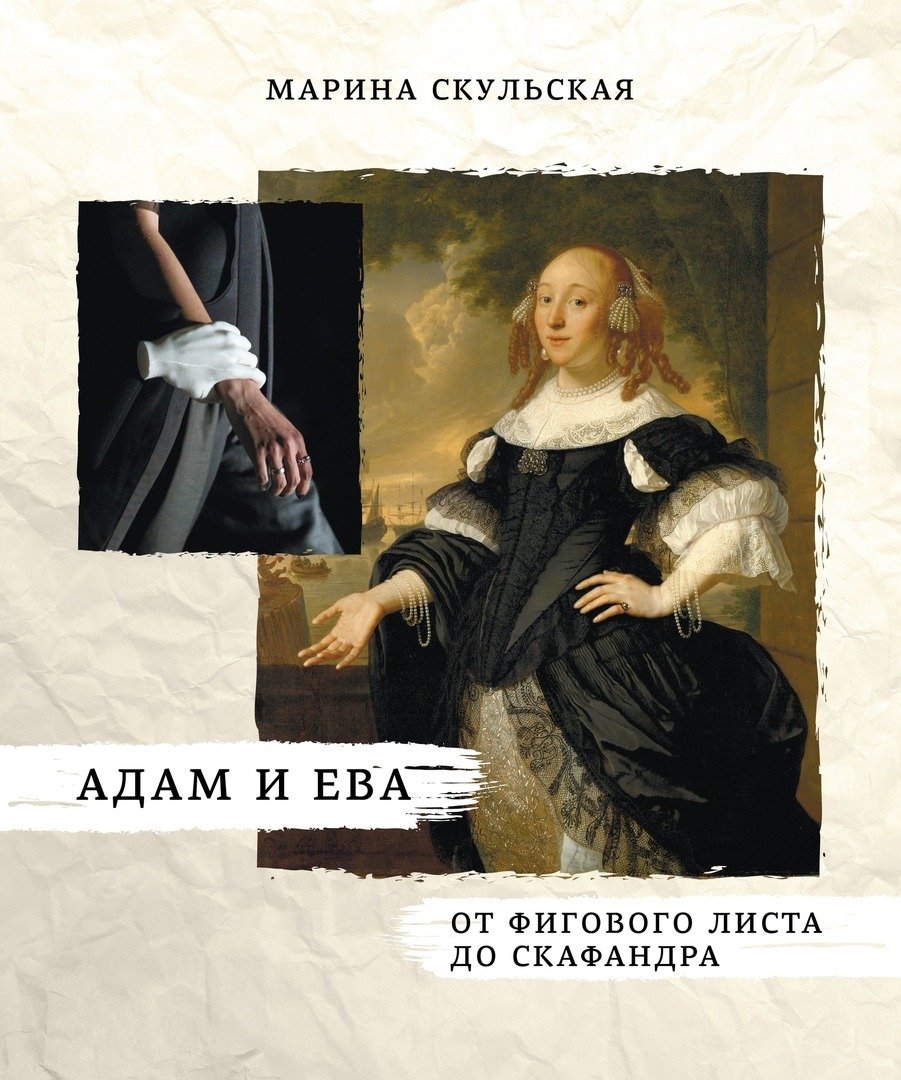
Е.П. Янькова вспоминала, как после воцарения Александра I «знатные старики» еще долго носили костюм времен своей молодости, и в том числе красные каблуки. «Красные каблуки означали знатное происхождение; эту моду переняли мы, разумеется, у французов, как и всякую другую; <…> Это очень смешное доказательство знатности <…> полюбили и у нас, в особенности знатные царедворцы: разве им можно не отличиться от простого люда?»
Пушкин упоминает красные каблуки в «Арапе Петра Великого»: «Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик…». И в «Евгении Онегине»:
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.
Ниагаров, герой рассказов Катаева (1923–1927), носит вызывающе яркие «остроносые малиновые туфли». А Остап Бендер у Ильфа и Петрова гордится малиновыми башмаками, «к каблукам которых были привинчены круглые, изборожденные, как граммофонная пластинка, резиновые набойки»: «Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая:
— Мои маленькие друзья».
Красные каблуки Людовика XIV переосмыслил наш современник — Кристиан Лубутен. В 1992 году он разрабатывал прототипы первых «лодочек» и остался недоволен традиционной черной подошвой, которая, с его точки зрения, выглядела «тяжелой». Если верить Лубутену, он позаимствовал красный лак у ассистентки и с его помощью изменил современную моду. Красная подошва — самая узнаваемая, желанная и, разумеется, самая подделываемая в мире. Среди источников вдохновения дизайнера помимо обуви легендарного французского монарха — «квартал красных фонарей», костюм тореадора, кабаре «Мулен Руж» и Folies Bergеres, в котором Лубутен работал в юности. Одна из множества звездных коллабораций Chrisitian Louboutin — полностью красные туфли для Джуда Лоу в сериале «Молодой папа».
Красный в русской культуре — синоним красивого. Это цвет праздника, счастья, любви, жизни, а также мощный оберег от дурного глаза и потусторонних сил.
Красный в традиционном костюме XIII–XV веков — самый любимый: для одежды, вышивки, аксессуаров, головных уборов, обуви. Далее идет черный, и только затем зеленый, желтый, синий, белый.
После Петровских реформ красный перешел в разряд цветов высокого социального статуса. Вельможи предпочитали бархат и шелк именно этой палитры в сочетании с богатым золотым шитьем. Пик моды пришелся на правление Павла I. Графиня В.Н. Головина вспоминала: «Красный цвет, любимый Лопухиной (фавориткой. — М. С.), стал любимым цветом императора Павла, а значит, и двор стал отдавать ему предпочтение. И офицеры, и все придворные, за исключением прислуги, носили этот цвет».
В пушкинскую эпоху оттенки пурпура были в большой чести у дам. Малиновый берет Татьяны — модный аксессуар, который можно увидеть на портрете графини Е.К. Воронцовой кисти Джорджа Хейтера (1832). Накануне женитьбы, в 1830 году, Пушкин писал в посвященном ей стихотворении «Прощание»:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой,
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Портрет графини Е.К. Воронцовой. Худлжник: Дж. Хейтер, 1832 год
Береты, подобные изображенному на портрете Воронцовой, описывал в 1829 году «Московский телеграф»: «Цвет, известный под именем еminence (кардинал. — М. С.), есть красно-пурпуровый. Гладкий бархат сего цвета употребляют на тоги, береты и плащи». В другом номере сообщалось, что на одной даме в театре «заметили огромнейший берет из пунцового бархата с белыми перьями, окруженный бриллиантовою гирляндою винограда».
«Ужели, — думает Евгений, —
Ужель она? Но точно… Нет…
Как! из глуши степных селений…»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
«Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я». —
«Да кто ж она?» — «Жена моя».
Из тысячи модных аксессуаров Пушкин выбирает лишь один — малиновый берет, который мгновенно запоминается и которого вполне достаточно для того, чтобы представить себе безупречную светскую даму эпохи. Английское слово «вульгарный» еще не вошло в русский язык, но Пушкин часто его использовал:
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (Не могу…
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме…
В главе «Княгиня Лиговская» («Герой нашего времени») Лермонтов иронизирует над самыми разными модами и светскими типажами. Не щадит он и образ пушкинской Татьяны: на званом обеде Печорин оказывается рядом с дамой в малиновом берете с перьями и «с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью». Поддерживая разговор о разуме и чувствах, Печорин заявляет: «Теперь по чести я готов пожертвовать самою чистейшею, самою воздушной любовью для 3 т[ысяч] душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? — Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Кадр из сериала «Молодой папа»
Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколышались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с нетерпением молча ожидали ее ответа».
Сергей Довлатов писал моей маме, Елене Скульской, в 1978-м: «Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы («необходимую»), то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней (дней восемь) посвящу апологетизации безвкусицы. Надену малиновые эластиковые дамские брюки (стиль юной Клюхиной), вышью на жопе Христа, вытатуирую на лбу слово «Евтушенко» и сфотографируюсь группой у памятника «Русалка»…
Но вернемся к малиновым пиджакам. В 1820-х цветные фраки (коричневых, синих и зеленых оттенков) стали постепенно уступать место романтическим черным, когда-то считавшимся исключительно траурными. Этот эстетический перелом волновал многих современников.
В «Исповеди сына века» (1835) Альфред де Мюссе с горестью заключает: «Не следует заблуждаться: черный костюм, который в наше время носят мужчины, это страшный символ. Чтобы дойти до него, надо было один за другим сбросить все доспехи и, цветок за цветком, уничтожить шитье на мундирах. Человеческий разум опрокинул все эти иллюзии, но он сам носит по ним траур, надеясь на утешение».
Рассуждения Подколесина в «Женитьбе» Гоголя не так мрачны. Заказывая фрак для свадьбы, герой рассуждает: «Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то».
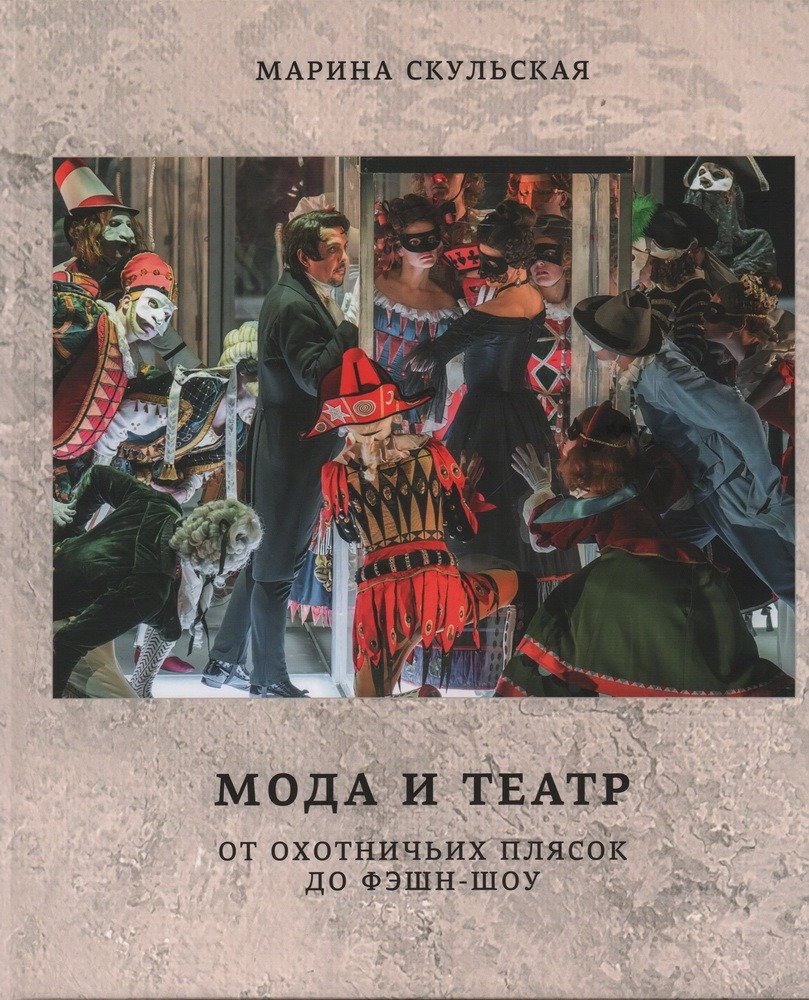
Мечты Чичикова о роскошном фраке «цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике» должны были вызывать смех у современников Гоголя, поскольку красные кафтаны вместе с красными каблуками в это время уже остались в далеком прошлом. К примеру, Е.П. Янькова рассказывала о соседе Шокареве: «Как сейчас вижу, в кафтане брусничного цвета, напудренный и с пучком; так он и дожил свой век, не переменив моды».
Однако претензии Чичикова простираются дальше. «Покажите мне, — обращается он к купцу, — сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того… больше искрасна, чтобы искры были».
Мариенгоф в «Романе без вранья» с искренним восторгом описывает Шаляпина в 1922 году: «Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм с красной искоркой, желтые перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца. Но глаза, рот и бритые, мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими. Тут уже не проведешь никаким аглицким материалом, никакой искоркой на костюме, никакими перчатками — пусть даже самыми желтыми в мире». Федор Иванович, заметим, был чрезвычайно щепетилен в вопросах стиля и заказывал костюмы исключительно у мастеров знаменитой лондонской Savile Row.
Фрак Чичикова «брусничного цвета с искрой» — это первый малиновый пиджак в русской истории, придуманный Гоголем за 160 лет до его появления в реальной жизни.