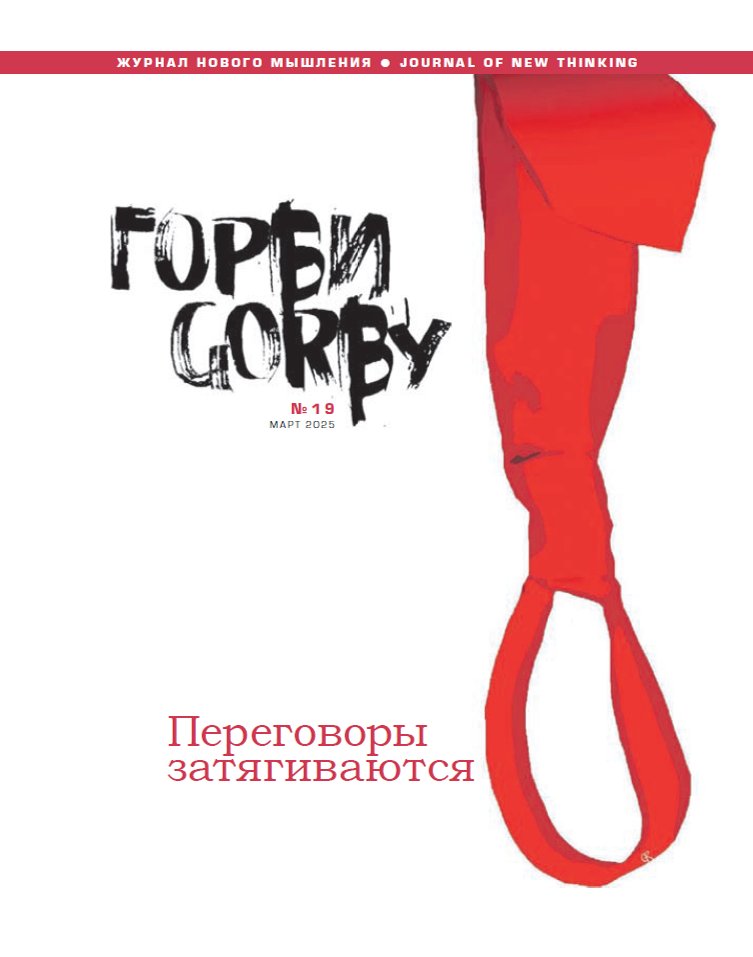Фото: URA.RU / TASS
Представим себе, что в силу некоторых исторических обстоятельств Советский Союз все-таки сохранился и его существование, уже, скорее, без первого президента СССР, растянулось бы на последующие десятилетия. Что было бы со страной и с мировой политикой? Это сценарное упражнение полезно в том числе для понимания мировых политических процессов последних лет.
СССР мог бы быть сохранен только железом и кровью
Есть мнение, что сохранить власть и не допустить распада СССР было в принципе не так уж и трудно — достаточно было отдать приоритет собственно экономической перестройке, а не медийной гласности и политическому плюрализму, сохранить Коммунистическую партию как ядро политической системы советского общества, не спешить с уступками Западу, а главное — решиться на неприятное, но совершенно необходимое жесткое силовое подавление радикальной оппозиции по образцу действий китайских властей на пекинской площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Однако буквально повторить опыт китайских реформ в советских условиях было едва ли возможно — как минимум по двум причинам.
- Во-первых, Советский Союз был гораздо более многонациональным государством, чем Китай. Если к концу 1980-х в населении КНР ханьцы составляли подавляющее большинство, то в населении СССР доля русских едва превышала половину и имела тенденцию к сокращению. Это означает, что объективных предпосылок для воинствующего национализма и сепаратизма в Советском Союзе было гораздо больше, чем в Китае. И если Пекин до сих пор продолжает упорно бороться с сепаратистами в Синцзяне и в Тибете, то трудно даже представить себе, какой размах и ожесточенность к нашему времени могла бы приобрести аналогичная борьба Москвы в Закавказье, Прибалтике, да и в Центральной Азии.
- Во-вторых, СССР и КНР к концу 80-х годов прошлого столетия находились на принципиально различных уровнях социального развития. В Китае, который еще переходил от патриархального аграрного общества к индустриальному, общий уровень урбанизации едва достиг 50% всего населения; в СССР, где первичная индустриализация давно завершилась, урбанизация превышала 70%. Число людей с высшим образованием в Китае составляло 2% населения (долгое эхо культурной революции!), в СССР — примерно 24%. Это значит, что в позднем СССР уже не работали те механизмы социальной и политической мобилизации населения, которые с успехом были использованы в Китае, а в более ранний исторический период — и в самом Советском Союзе. Поэтому, в частности, и диссидентское движение в позднем СССР было относительно многочисленнее и активнее, чем в это же время в Китае.
Если это так, то для сохранения политических основ и территориальной целостности советского государства потребовались бы гораздо более масштабные и системные репрессии, чем те, которые Дэн Сяопин позволил себе на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Если бы Советский Союз и выжил в конце ХХ века, то, скорее всего, лишь становясь все более авторитарным и технократическим государством корпоративного типа (модель меритократического «большого Сингапура»). Технократическая утопия с течением времени должна была окончательно заменить собой в общественном сознании социальную утопию раннего советского периода. Далеко не очевидно, что ставка на технический прогресс и ускорение экономического роста позволила бы воссоздать рассыпающуюся политическую базу советского государства.

Пекинская площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Фото: Getty Images
Разрядка с Америкой была бы очень ограниченной
Мог ли реформированный и вернувший уверенность в себе СССР рассчитывать на долгосрочное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами? Иногда приходится слышать точку зрения, что обновленный Советский Союз был в состоянии разделить ответственность с США за будущее международной системы, добиться полного и всеобщего ядерного разоружения, приступить к совместному урегулированию региональных конфликтов, запустить долгожданную реформу ООН и т.п. Более того, утверждается, что Москва и Вашингтон имели бы уникальную возможность создать двусторонний кондоминиум по ключевым вопросам глобального управления, тем самым гарантированно сделав наш мир более безопасным, стабильным и процветающим. Таким образом, биполярность времен холодной войны сохранилась бы, но она приобрела бы уже не старое, негативное, а новое, позитивное, наполнение.
К сожалению, такие предположения выглядят не слишком убедительными. Удалось бы Горбачеву — триумфатору перестройки — добиться от высокомерной Америки признания за СССР равного ей статуса в международных делах? Едва ли. Не будем забывать, что в США советского лидера полюбили лишь после того, как стало окончательно ясно, что он терпит неудачу в реализации своей программы обновления социализма. А до этого любые примирительные заявления и даже односторонние шаги СССР навстречу США воспринимались как тактические уловки или пропагандистские ухищрения, призванные усыпить бдительность Запада и в конечном счете ослабить его позиции. Да и опыт Китая последних лет показывает, что Соединенные Штаты даже и сегодня не в состоянии на равных взаимодействовать с кем бы то ни было на международной арене, независимо от того, какой уровень эмпатии и гибкости демонстрирует другая сторона. Обновленному Советскому Союзу было бы еще труднее договариваться с Вашингтоном, чем Китаю сегодня, — в силу того, что за советско-американскими отношениями неизбежно тянулся бы длинный шлейф стереотипов, обид и подозрений многих десятилетий эпохи холодной войны.
А потому вполне вероятно, что даже при наилучших обстоятельствах высокая риторика «нового мышления» так и осталась бы риторикой. А все мы жили бы в условиях «мирного сосуществования» СССР и США образца первой половины 70-х годов прошлого века, когда ограниченный контроль над ядерными вооружениями (но не их радикальное сокращение) и регулярные встречи на высшем уровне сопровождались бы ожесточенной идеологической борьбой и соперничеством за влияние на обширных пространствах Глобального Юга. Американские президенты без труда находили бы множество поводов для введения новых антисоветских санкций и для давления на Москву в точках ее наибольшей уязвимости, особенно в условиях почти неизбежных всплесков активности радикальной политической оппозиции внутри СССР и предсказуемой реакции советских властей на эти всплески. Ни о каком реальном советско-американском «кондоминиуме» речи, скорее всего, не возникло бы.
Советскому слону было бы тесно в европейской посудной лавке
Реформированный и получивший второе дыхание Советский Союз едва ли органично вписался бы в тот идеальный «общеевропейский дом», о котором долго мечтал Горбачев. И не только из-за вероятной авторитарной природы обновленной советской модели. Но и просто в силу своих размеров и мощи, которые не могли быть уравновешенными ни одной потенциальной коалицией других европейских государств. При этом сохранение СССР, пусть даже и в измененном виде, позволило бы избежать того катастрофического обвала европейского коммунистического движения, который состоялся в 1990-е годы. Да и левые социал-демократы смогли бы сохранить многие утраченные ими в эти годы позиции. Вообще говоря, «европейский проект» в таком варианте альтернативной реальности был бы значительно более скромным, включая масштабы расширения Евросоюза (равно как и расширения НАТО) и размах претензий Брюсселя на универсализм европейских норм и ценностей.

Россия. Москва. 26 декабря 1991 г. Фото: Валентин Кузьмин / Фотохроника ТАСС
Соблазнительно предположить, что, удержав от развала Советский Союз, удалось бы также сохранить и всю систему социалистических государств в Центральной Европе, включая и Совет экономической взаимопомощи и даже Организацию Варшавского договора. Планов модернизации обеих многосторонних структур в конце 1980-х годов было предостаточно.
Обновленный СССР теоретически мог бы предложить своим партнерам более выгодные и комфортные для них условия экономического и военно-политического сотрудничества, тем самым «перекупив» Центральную Европу у наступавшего Запада. Но, скорее, в случае многих стран центральноевропейского региона эта стратегия не сработала бы: прагматические интересы в этих государствах рано или поздно были бы оттеснены на задний план интересами идентичности.
Историческая память нередко оказывается важнее соображений непосредственной экономической целесообразности.
Вспомним хотя бы, что польские восстания XIX столетия происходили на фоне бурного экономического развития Польши в составе Российской империи.
Сохранение советского контроля над Центральной Европой, как, впрочем, и над Прибалтикой, оставалось бы постоянной головной болью советского руководства при любых вариантах развития событий на европейском континенте. Можно даже предположить, что в итоге Центральная Европа оказалась бы в положении, сходном с нынешней ситуацией в странах АСЕАН: они сегодня имеют наиболее значительные торгово-инвестиционные связи с Китаем, но все-таки в своем большинстве политически ориентируются на США и нередко апеллируют к Вашингтону, а не к Пекину по ключевым вопросам безопасности в регионе Юго-Восточной Азии. Был бы готов обновленный СССР в случае крайней необходимости повторить опыт военного вмешательства в Венгрии 1956 году, в Чехословакии в 1968-м для сохранения своих позиций в Центральной Европе, и если да, то какой была бы реакция на эти действия со стороны Запада? Оба этих вопроса остаются открытыми.
Советско-китайские отношения оставались бы сложными
В альтернативной реальности взаимодействие между Москвой и Пекином, скорее всего, было бы более сложным и противоречивым, чем в реальности существующей. Как наглядно продемонстрировал опыт советско-китайских отношений 60–80-х годов прошлого века, близость социально-экономических и политических систем двух государств отнюдь не гарантирует взаимопонимания и не всегда обещает долговременное беспроблемное сотрудничество. Как известно из биологии, внутривидовая конкуренция может быть острее и жестче межвидовой. По всей видимости, параллельное существование двух социалистических сверхдержав предполагало бы не только сотрудничество, но и глобальное соревнование двух расходящихся моделей «развитого социализма», причем китайская модель как относительно более мягкая могла бы получить в этой конкуренции определенное преимущество перед более жесткой советской моделью.
Разумеется, США и Запад в целом постарались бы в максимальной мере использовать советско-китайские противоречия к своей выгоде, как это уже не без успеха делалось на заключительном этапе холодной войны. Идеальной позицией для Вашингтона стало бы положение балансира или даже верховного арбитра между Москвой и Пекином, которое могло бы частично компенсировать неизбежное общее ослабление позиций Соединенных Штатов в мировой политике и экономике. Разумеется, на ту же роль арбитра между двумя другими центрами силы претендовали бы также Москва и Пекин, а потому взаимодействие углов этого геополитического треугольника неизбежно носило бы сложный и непредсказуемый характер.
Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, скорее всего, существенно выиграли бы от сохранения Советского Союза: у них оставалось бы поле для геополитического маневра между Востоком и Западом,
которое они в нашей реальности утратили к концу 1980-х. Конкуренция между СССР, Западом и Китаем за влияние в различных регионах Глобального Юга продолжалась бы многие десятилетия, что открывало бы дополнительные возможности для реализации развивающимися странами амбициозных проектов национальной модернизации. В этих условиях США едва ли пошли бы на риск прямых военных интервенций, как это было в нашей реальности в Ираке в 2003-м, или на активное содействие смене режима, как в Ливии в 2011 году. Тем не менее борьба за политическое и экономическое преобладание в ключевых точках бывшего третьего мира, по всей видимости, оставалось бы существенным осложняющим фактором как в советско-американских, так и потенциально в советско-китайских отношениях.
ХХ век оказался бы длиннее
С легкой руки британского историка Эрика Хобсбаума распад СССР в конце 1991 года часто обозначается как финишная черта «короткого XX века», старт которого относят к началу Первой мировой войны летом 1914-го. Этот «короткий ХХ век», среди прочего, отличался устойчивой верой в технический прогресс и в социальную справедливость, повсеместным чувством исторического оптимизма и наличием всеобъемлющих метанарративов (или «больших нарративов»), претендующих на выстраивание единой и непротиворечивой картины мира и придававших смысл индивидуальному человеческому существованию. Советский метанарратив стал во многом центральным для всей исторической эпохи, другие метанарративы так или иначе выстраивались в явной или скрытой полемике с ортодоксальным марксистско-ленинским пониманием законов, управляющих развитием человеческой цивилизации.
Закат СССР означал завершение эпохи метанарративов и, более того, эпохи модерна в целом.

Фото: Замир Усманов / ТАСС
Попытки создать новый универсальный метанарратив на базе процессов глобализации и либеральной демократизации оказались в целом неудачными; сегодня как глобализация, так и политический либерализм находятся в состоянии кризиса. Если бы Советский Союз в каком-то обновленном виде сохранился на протяжении еще нескольких десятилетий, возобновилась бы с новой силой и выдохшаяся к концу прошлого столетия борьба метанарративов. «Короткий?ХХ век» превратился бы в «долгий век», подобный «долгому XIX веку» (по Хобсбауму — с 1789 по 1914 год).
Присутствие на исторической сцене СССР держало бы остальной мир в тонусе, не позволяя расслабляться и впадать в ересь «конца истории». И США, и Китай, и Евросоюз имели бы в лице Советского Союза того символического «другого», присутствие которого заставляет напрягаться, генерировать новые нестандартные идеи и ставить перед собой захватывающие дух сверхзадачи. Вероятно, в мире было бы больше смелых социальных и экономических экспериментов, больше головокружительных научно-технических проектов (полет на Марс вместо селфи-палки для смартфона, управляемый термоядерный синтез вместо вездесущих покемонов). Больше ресурсов уходило бы на фундаментальную науку и на образование, было бы больше ограничений на избыточное потребление, традиционные социальные и административные иерархии были бы жестче, а терпимость к инакомыслию была бы в целом ниже.
При сохранении Советского Союза наш мир был бы, возможно, более героическим и пафосным. Рыхлый, аморфный, многоцветный постмодерн гораздо более благосклонен к маленькому человеку со всеми его слабостями, недостатками и несовершенствами, чем ригидный, монолитный и черно-белый модерн.
Однако в мире советского модерна существовали, пусть и несовершенные и далеко не всегда справедливые, но по крайней мере относительно определенные и в целом понятные для всех правила и нормы международной жизни. Несовершенством и несправедливостью мироустройства эпохи СССР можно и нужно было возмущаться, но наличие устойчивых норм позволяло рассчитывать на какую-то его стабильность. И если советский человек испытывал неизменную уверенность в завтрашнем дне, то его постсоветский наследник постоянно пребывает в тревожных сомнениях: а каким оно будет, завтрашнее дно мировой политики?