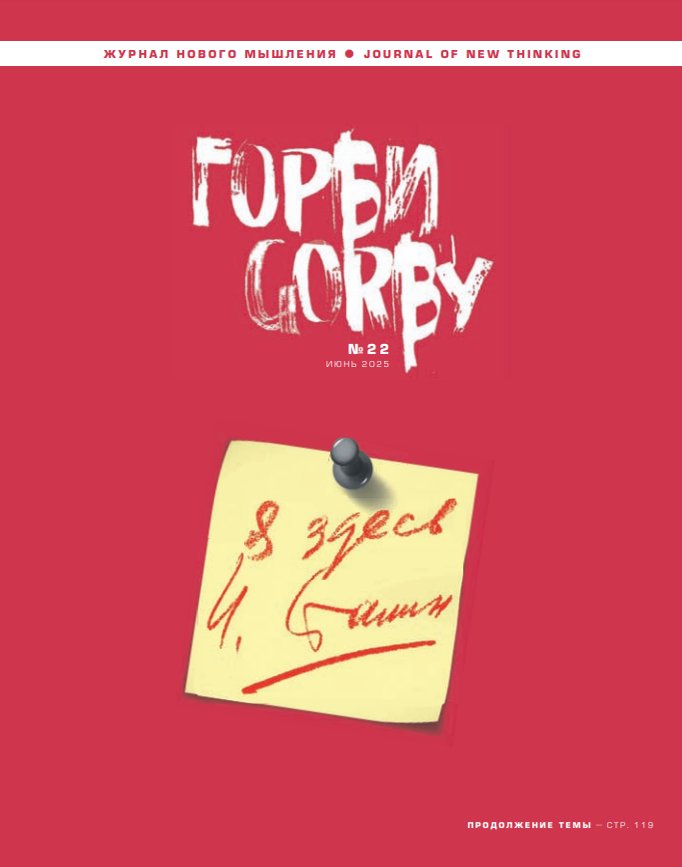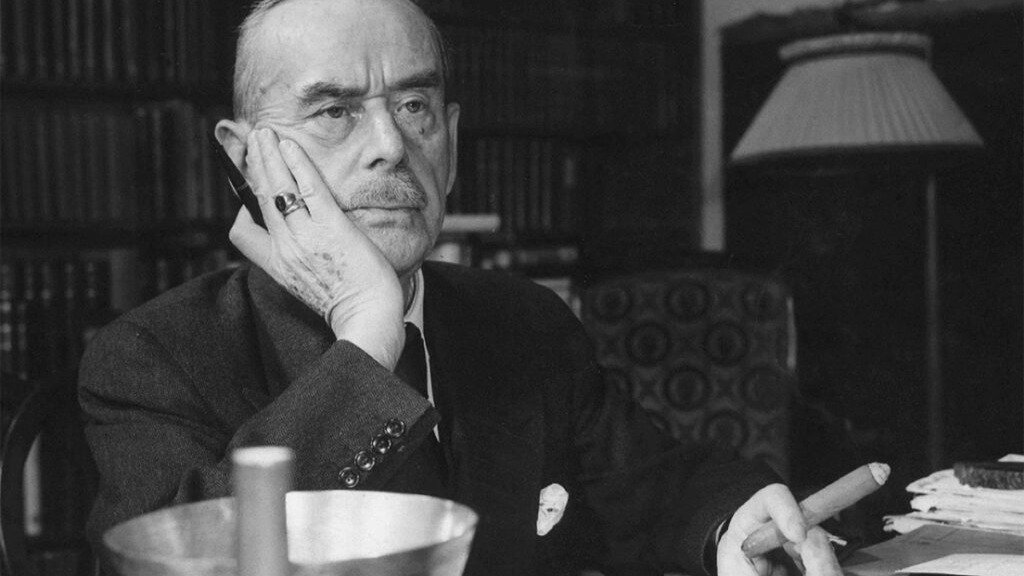Вход в Слуцкое гетто. Фото: архив
При одних институтах и в одних ситуациях даже обычные люди становятся варварами, а при других — выпускники «школы варваров» становятся нормальными людьми
Прадед мой был родом из Слуцка. В конце XIX века он получил в Москве высшее образование, женился в Риге, а затем поселился в Санкт-Петербурге. На четыре поколения корни моей семьи прослеживаются, а дальше… Мы как-то раз с женой задумались: не съездить ли в Слуцк поискать документы? Но по понятной причине быстро от этой затеи отказались.
В книге Кристофера Браунинга «Обычные люди: 101-й полицейский батальон и «окончательное решение еврейского вопроса» (М.: Альпина нон-фикшн, 2025) приводится не просто документ об уничтожении значительной части населения Слуцка, а подробный отчет, который глава немецкой гражданской администрации города направил начальству 30 октября 1941 года: «С неописуемой жестокостью со стороны немецких полицейских, а также — и в особенности — литовцев (немецкому батальону были приданы в помощь две литовские роты. — Д. Т.) евреев, а равно и белорусов вытаскивали из их жилищ и сгоняли в общую массу. Стреляли по всему городу, и на отдельных улицах грудами валялись тела убитых. <…> В ходе проведения акции полицейский батальон самым возмутительным образом занимался грабежами. <…> Мне пришлось арестовать двух вооруженных до зубов литовцев, пойманных на мародерстве».
В общем, если бы прадед не уехал из Слуцка, не было сейчас его потомков. И меня, естественно. А еще хорошо, что он жену вывез из Риги. Вот документ, описывающий положение дел в Риге 26 декабря 1941 года: «Говорят, что в настоящий момент в гетто находятся лишь 2500 евреев (из тех 35 тысяч, которые проживали в Риге к началу войны. — Д. Т.), которых используют на работах. Остальные либо отправлены работать в другие места, либо расстреляны латышами… Они ненавидят евреев особенно сильно. С момента освобождения и до настоящего времени они очень активно участвовали в истреблении этих паразитов».
«Чтоб нашим детям жилось лучше»
В книге Браунинга много подобных документов, но главное в ней другое. Автор пытается разобраться в том, были ли убийцы обычными людьми, которым в иной ситуации даже в голову не пришло бы совершать преступления, или значительная часть немецкого народа (и так же, наверное, литовского, латышского?) была исходно порочна, а вседозволенность военного времени лишь вскрыла заложенные в нем ксенофобию и жестокость.
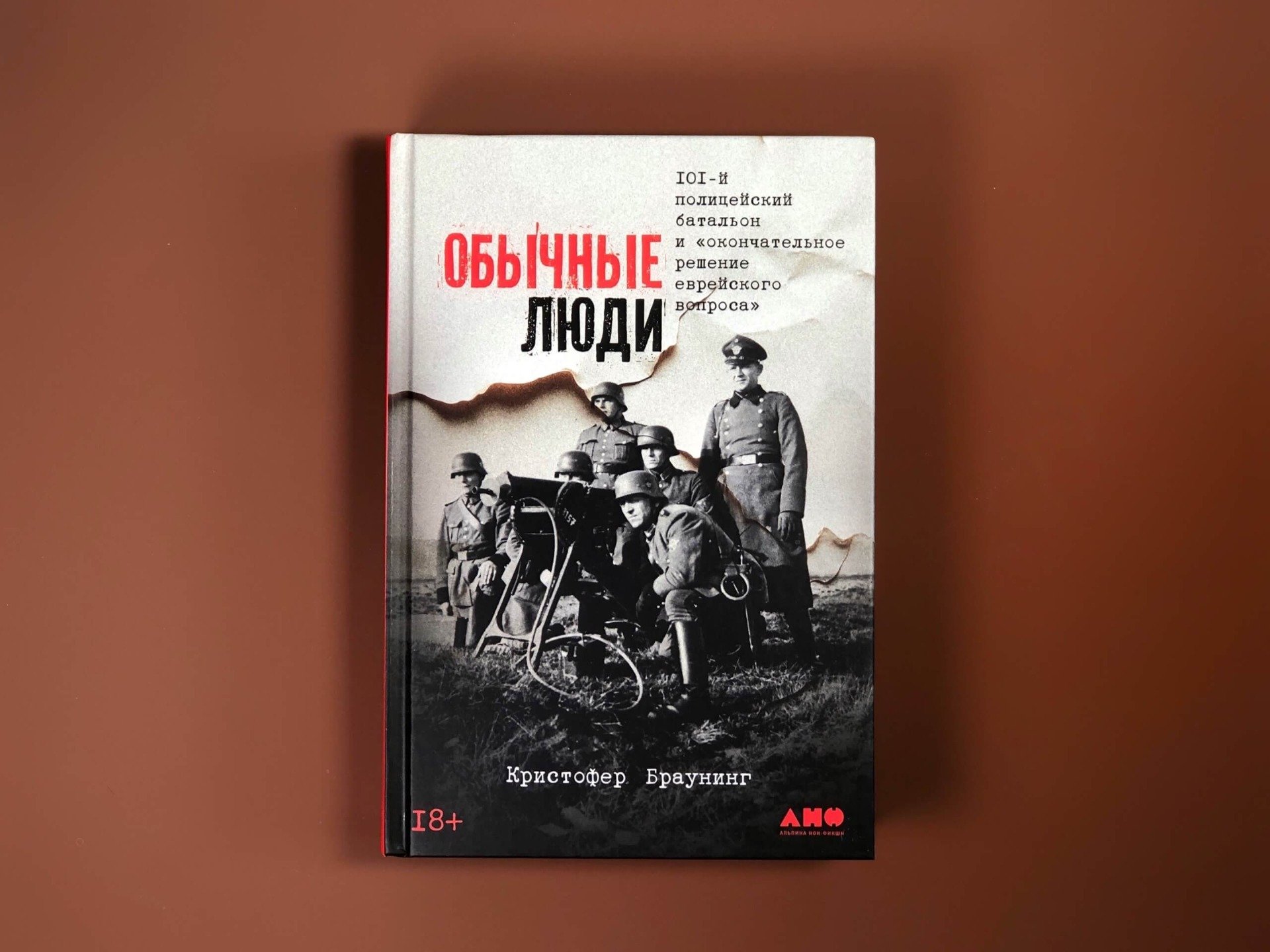
Книга «Обычные люди: 101-й полицейский батальон и «окончательное решение еврейского вопроса»
Подробно исследовав судьбу батальона, по которому есть хорошая документальная база, автор приходит к выводу, что он все же в основном состоял из обычных людей, хотя для получения полной картины следует принимать во внимание комплекс факторов (в том числе, историко-культурных). Обычные люди оказались в таких необычных обстоятельствах, что вынуждены были проявлять конформизм, причем не только в отношении начальства, способного репрессировать за уклонение от службы, но и в отношении той социальной среды, в которой с подачи начальства установились моральные нормы, поощряющие убийства.
Автор показывает, что
нацистская пропаганда, воздействовавшая на обывателя, была не столь уж мощной, и тот, кто хотел ей не поддаться, мог, наверное, это сделать.
Но если ты живешь в тоталитарном обществе и вынужден играть по заданным им правилам, то психологически проще принять пропаганду и поверить, например, в то, что существуют недочеловеки и что их уничтожение способствует развитию твоей страны. Иначе говоря, не пропаганда делает убийц из обывателей, а совокупность конкретных обстоятельств (от мобилизации до системы поощрений за службу рейху). Идеология же помогает обывателю сохранить самоуважение при принятии решения, которое спасет его от репрессий или предоставит выгоду.
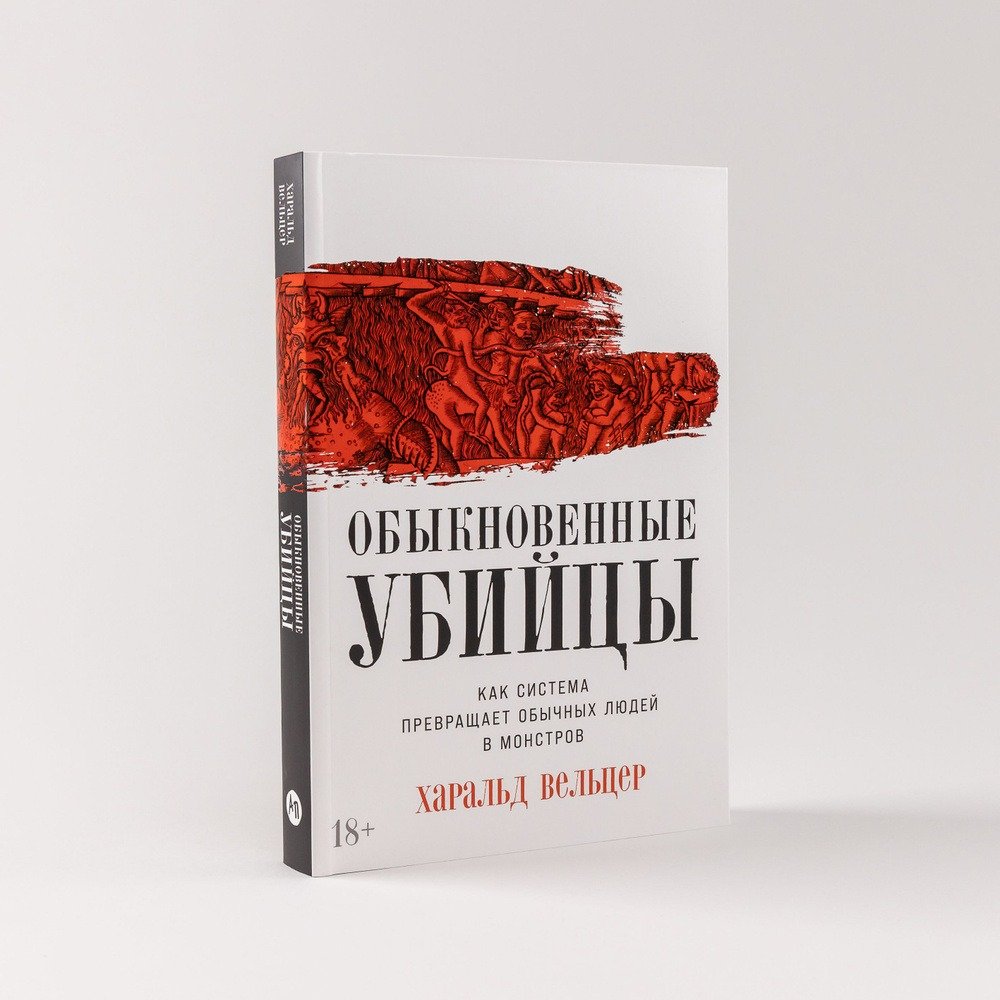
Книга «Обыкновенные убийцы. Как система превращает обычных людей в монстров»
Вопрос о формировании специфической морали, облегчающей убийства, подробно разбирается в книге Харальда Вельцера «Обыкновенные убийцы. Как система превращает обычных людей в монстров» (М.: Альпина Паблишер, 2024), которую можно, на мой взгляд, рассматривать в совокупности с книгой Браунинга как единый двухтомник. Уничтожение евреев рассматривалось как трудная, но необходимая работа, которой может гордиться человек, нашедший в себе силы преодолеть «ложную гуманность» и уничтожить побольше недочеловеков.
«Черт возьми, наше поколение просто должно это вытерпеть, — говорил один убийца, — чтобы нашим детям жилось лучше». Почему жизнь без евреев с точки зрения нациста станет лучше? Один из возможных ответов обнаруживается в публикуемом Вельцером отрывке из письма секретаря полиции Вальтера Матнера жене от 5 октября 1941 года:
«На первых вагонах [с жертвами] моя рука немного дрогнула, когда я стрелял в них, но к этому привыкаешь. К десятому вагону я уже спокойно целился и уверенно стрелял в многочисленных женщин, детей и младенцев. Не забывая о том, что у меня тоже есть дома два ребенка, с которыми эти орды поступили бы точно так же, если не в десять раз хуже. Смерть, которую мы им подарили, была быстрой и короткой по сравнению с адскими мучениями тысяч и тысяч в подземельях ГПУ. Младенцы подлетали в воздух, описывая большую дугу, и мы стреляли в них еще в воздухе, до того, как они упадут в яму или в воду».
Вот ответ: придет «еврейское ГПУ» и убьет всех немецких детей, а поскольку из еврейских детей будут вырастать новые чекисты, надо сразу убивать младенцев. Трудно предположить, что в эту философию можно поверить, но, когда ты уже мобилизован и вынужден убивать, подобная чушь вполне сойдет за самооправдание: если сам себя в этом не убедишь, то заснуть потом не сможешь. Кстати, в ряде случаев полицейским так и не удавалось представить убийство героизмом в собственных глазах, и тогда расстрелы детей перепоручались местным ополченцам, как было, скажем, в Белой Церкви, где со взрослыми евреями справились немцы, а устранять девять десятков оставшихся сирот пришлось украинцам.
Варвары и обыватели
О том, как «вколачивалась» в будущих нацистов эта идеология, есть хорошая книга Эрики Манн (дочери писателя Томаса Манна) «Школа варваров: воспитание при нацистах» (СПб.: Jaromir Hladik press, 2023). Написана она была еще в 1938 году — задолго до того, как гитлеровский режим рухнул. Легко представить себе, что тот, кто читал ее в момент издания, приходил к мысли о неизбежной гибели Германии в культурном плане, то есть о том, что народ полностью испорчен пропагандой и уже не сможет возродиться.

Книга «Школа варваров: воспитание при нацистах»
Если бы режим существовал долго, «варвары» наверняка оправдывали бы существование при нем с помощью набора идеологических штампов, которые школа вбила им в сознание. Но через десять лет началось возрождение страны, и львиную долю трудов по созданию того германского экономического чуда, которое принято называть социальным рыночным хозяйством, взяло на себя именно поколение, обучавшееся в «школе варваров». Эти «варвары», может, и не признали своих пороков (я писал о книгах про неудачи денацификации в мартовском номере «Горби»), но заложить экономическую основу германской демократии сумели. Выходит, что при одних институтах даже обычные люди становятся варварами, а при других — выпускники «школы варваров» становятся нормальными людьми.
В книгу Браунинга помимо самого текста исследования включена еще и полемика с историком Дэниэлем Голдхагеном, стоящим на противоположной позиции. Кто-то, наверное, подумает, будто Браунинг выгораживает немцев, списывая их преступления не на присущий народу многовековой «зоологический антисемитизм», а на конкретные обстоятельства (начальство велело, нас так учили, евреи все равно были обречены и т.п.) Но сам автор считает иначе: «Было бы большим утешением согласиться с Голдхагеном в том, что лишь очень немногие общества обладают долгосрочными культурно-когнитивными предпосылками для совершения геноцида и что политические режимы могут устраивать геноцид лишь тогда, когда подавляющее большинство населения страны единодушно соглашается с тем, что это важно, справедливо и необходимо. Если бы Голдхаген был прав, мы жили бы в более безопасном мире, но я не настолько оптимистичен. Я боюсь, что мы живем в таком мире, где война и расизм — повсеместные явления, где возможности государства по мобилизации масс и легитимации собственных действий становятся все шире, где чувство личной ответственности все сильнее размывается специализацией и бюрократизацией и где социальное окружение оказывает мощнейшее давление на людей и устанавливает нормы морали. Я боюсь, что в таком мире современные правительства, решившие прибегнуть к массовым убийствам, едва ли потерпят неудачу в попытках превратить «обычных людей» в «добровольных палачей».
Вельцер, рассуждая об опасностях современного мира, фактически вторит Браунингу: «В конце концов, нужно не так уж много, чтобы совершенно обычные люди превратились в массовых убийц. Очевидно, что 200–300 лет воспитания (западного) рода человеческого в духе идеалов Просвещения принесли довольно мало в плане развития черты психики, которая должна проявляться вместо бесспорного соединения с группой: автономии». Современный человек не может автономизироваться, то есть отделить себя от коллектива, и, если коллектив трансформирует моральные нормы, легитимизируя насилие, слабые люди послушно следуют за своими фюрерами.
«Ситуация имеет значение»
Для объяснения своих выводов об истории нацистского общества Браунинг прибегает к поддержке социальной психологии. В частности, к интерпретации стэндфордского тюремного эксперимента (СТЭ), подробно описанного в книге его основного автора Филипа Зимбардо «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев» (М.: Альпина нон-фикшн, 2018). Как объяснил сам автор, книга — это «моя попытка понять процессы трансформации, заставляющие хороших и обычных людей совершать плохие и дьявольские поступки».
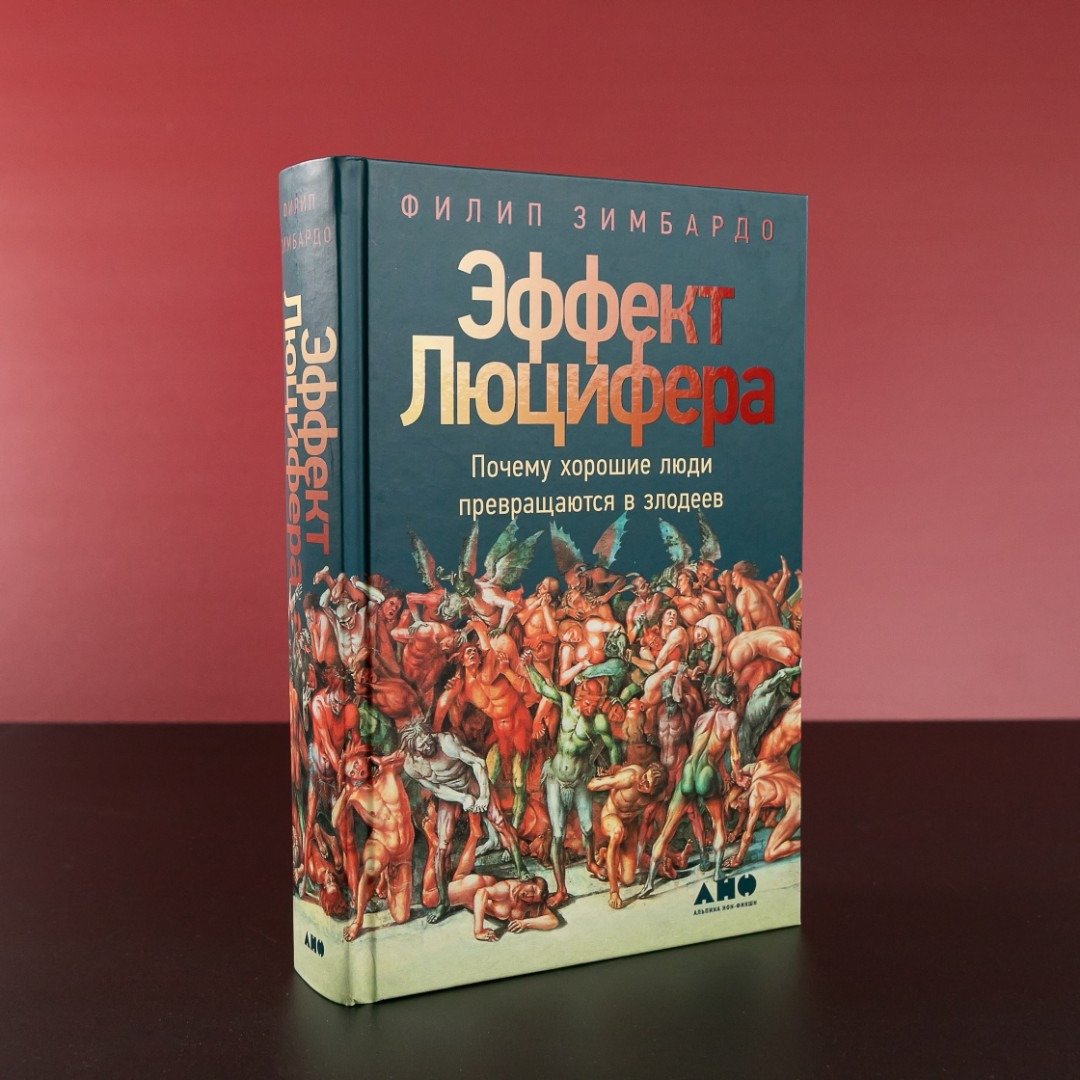
Книга «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев»
Суть СТЭ состояла в том, что психологи создали в университете «тюрьму», наполнив ее добровольцами и произвольно разделив их на заключенных и охранников. Буквально в течение нескольких дней «охранники» стали вести себя как настоящие охранники, проявляя по мере возможности жестокость в отношении таких же, как они, молодых людей, случайно оказавшихся «заключенными». А образ жизни «зэков» быстро превратился из непринужденного студенческого общения в настоящий тюремный образ жизни с соответствующими разговорами, интересами, поведением.
Объясняя важнейшие результаты СТЭ, Зимбардо провел любопытное сравнение: «В определенной социальной среде, где действуют мощные силы, человеческая природа иногда подвергается трансформациям, столь же кардинальным, как в замечательной истории Роберта Льюиса Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде».
Наше поведение в значительной мере зависит от ситуации, в которую мы попадаем. И зависимость эта часто бывает гораздо сильнее, чем наше «я». «Нам хочется верить в глубинную, неизменную добродетельность людей, в их способность сопротивляться внешнему давлению, рационально оценивать и отклонять искушения ситуации, — продолжает Зимбардо. — Мы наделяем человеческую природу богоподобными качествами, твердой нравственностью и могучим интеллектом, которые делают нас справедливыми и мудрыми. Мы упрощаем сложность человеческого опыта, воздвигая непроницаемую стену между Добром и Злом, и эта стена кажется непреодолимой. С одной стороны этой стены — мы, наши чада и домочадцы, с другой — они, их исчадия и челядинцы. Как ни парадоксально, создавая миф о собственной неуязвимости для ситуационных сил, мы становимся еще более уязвимыми, поскольку теряем бдительность».
Если участники СТЭ, понимавшие, что не рискуют ни жизнью, ни свободой, быстро трансформировали свое поведение под воздействием ситуации, то как же сильно ситуационное воздействие влияет в тоталитарном обществе на обывателя, с одной стороны, хорошо осознающего степень риска нонконформистского поведения, а с другой — имеющего палочку-выручалочку в виде идеологии, объясняющей, что аморальное поведение на самом деле является истинно моральным в свете недавних открытий нашего фюрера и ряда его приближенных.
«Главный урок СТЭ очень прост, — делает вывод Зимбардо, —
ситуация имеет значение. <…> Поэтому всякий раз, когда мы пытаемся понять причину какого-то странного, необычного поведения — собственного или других людей, нужно начинать с анализа ситуации.
К факторам предрасположенности (наследственность, черты характера, личностные патологии и т.д.) можно обращаться только в том случае, когда анализ, основанный на изучении ситуации, ничего не дает при разгадывании загадки».
В современной России про это часто забывают, предпочитая выводить добро и зло из многовековой культуры общества. И это мешает понять суть происходящих на наших глазах сложных процессов.
Насилие во внесистемных ситуациях
Кроме главного урока СТЭ Зимбардо выделяет еще и самый важный: «Ситуацию создает Система». Но вообще-то многие ситуации, порождающие насилие, возникают случайно. Их исследовал социолог Рэндалл Коллинз в книге «Насилие. Микросоциологическая теория» (М.: Новое литературное обозрение, 2025), которая была издана у нас одновременно с «Обычными людьми». Можно сказать, что социолог Коллинз зашел в проблему насилия с иной стороны, чем историк Браунинг, социальный психолог Вельцер и психолог Зимбардо, но пришел к весьма похожим выводам о большом влиянии конкретной ситуации на то, приведет ли определенный конфликт к насилию, или нет.
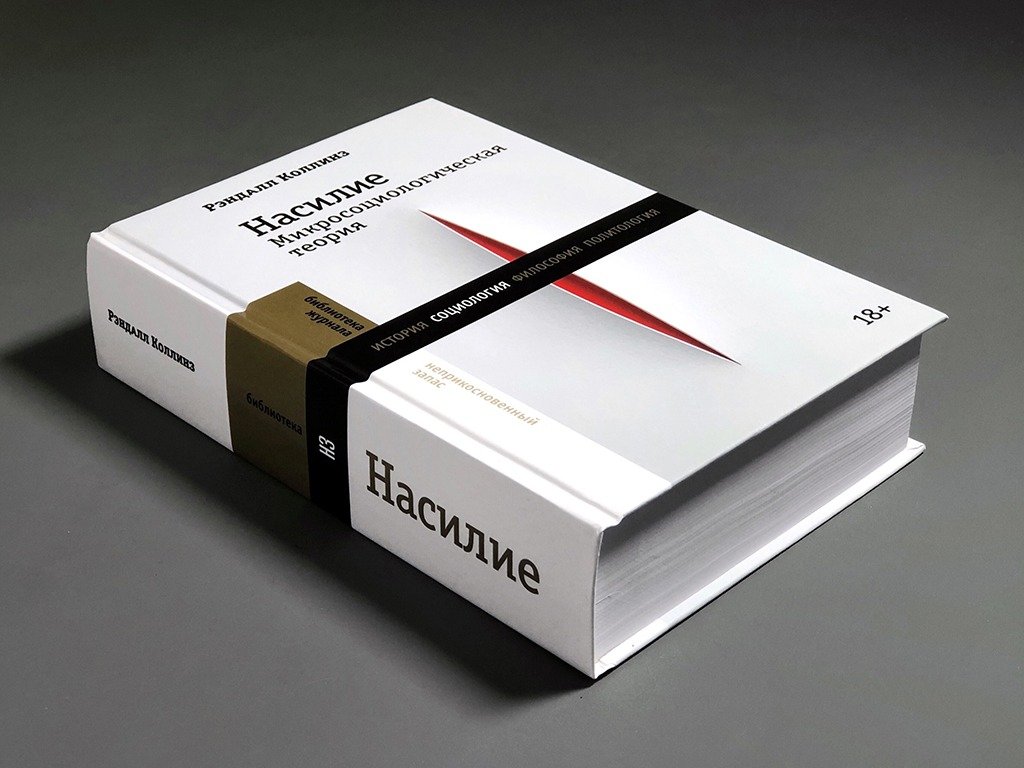
Книга «Насилие. Микросоциологическая теория»
Например, уличная стычка двух «реальных пацанов» может завершиться лишь демонстрацией агрессивности и угрозами, а может — реальным ударом ножа. Все зависит от соотношения сил сторон, эмоциональной заряженности участников конфликта, от того, насколько они боятся перехода к действию, а также от того, имеются ли вокруг наблюдатели (особенно подзуживающие), или случайная встреча противников произошла где-то в темном переулке. Другой пример: буйные футбольные болельщики могут устроить погром, а могут просто пройтись по улицам с криками и мирно разойтись. Опять же конкретика определяется совокупностью ситуационных обстоятельств.
Согласно теории Коллинза,
насилие в обществе возникает гораздо реже, чем нам кажется, поскольку мы часто выстраиваем свое представление на сообщениях СМИ, старающихся не упустить все вызывающие интерес аудитории военные конфликты, теракты, преступления, семейные ссоры.
Регулярно обнаруживая насилие в своем телевизоре, мы невольно предполагаем, будто оно нас со всех сторон окружает, но ведь мирная будничная, унылая жизнь просто не попадает в «ящик» (как говорят журналисты, сенсация — это не тогда, когда собака укусила человека, а тогда, когда человек укусил собаку).
Более того, значительная часть зрительской аудитории формирует свое представление о распространенности насилия даже не по скучным новостям, а по захватывающим триллерам и детективам, в которых реальное время сжимается, чтобы скрыть скучные и рутинные моменты обыденной жизни, тогда как время боевых сцен увеличивается многократно». Тот, кто каждый вечер смотрит новый фильм или сериал про насилие, но мало внимания уделяет реальной жизни, может начать переносить мир кино в мир повседневности. На самом же деле обычному человеку, согласно теории Коллинза, «насилие совершить трудно». Его толкают к нему лишь конфликтная ситуация и собственный страх — конфронтационная напряженность, как называет это Коллинз. Если целый ряд провоцирующих факторов не сойдется вместе, дело закончится без крови.
Ситуация, складывающаяся на войне, конечно, сложнее, чем уличные разборки. На нее Система влияет очень сильно. Но, по мнению Коллинза, у Войны есть много общего с Улицей и Стадионом. Все испытывают страх и не стремятся вступить в бой без нужды, а формируемые у наблюдателей «героические убеждения» создаются в глубоком тылу, так же, как и презрительные представления о врагах. «Чем дальше от линии фронта, тем больше звучит свирепая риторика и большевыражается риторического энтузиазма в отношении всего военного предприятия. <…> С каждым шагом в сторону тыла доля пустых слов увеличивается, война последовательно предстает в более идеализированном облике, враг постепенно дегуманизируется, отношение к убийствам становится все более бездушным, а все происходящее скорее напоминает ликование спортивных болельщиков».
«Гнев выходит наружу там, — продолжает Коллинз, — где нет или почти нет конфронтационного страха — в находящихся под контролем ситуациях, когда противник уже подчинен, или в совершенно символических конфронтациях, где отсутствует схватка, а вместо этого соперники демонстрируют свои позиции или выпускают пар. Ирония заключается в том, что в мирной жизни гнева, вероятно, больше, чем в реальных сражениях». Настоящий бой, по Коллинзу, это зачастую паника, в ходе которой кто-то отчаянно атакует, а кто-то в ужасе драпает.
В общем, не стоит нам путать гневные слова диванных стратегов с реальным насилием. У них совершенно разное происхождение. Если мы хотим минимизировать насилие, надо не рассуждать о выплеске эмоций, случающемся повсюду у самых разных людей, а устранять ситуации, в которых насилие становится неизбежным.
Дмитрий Травин