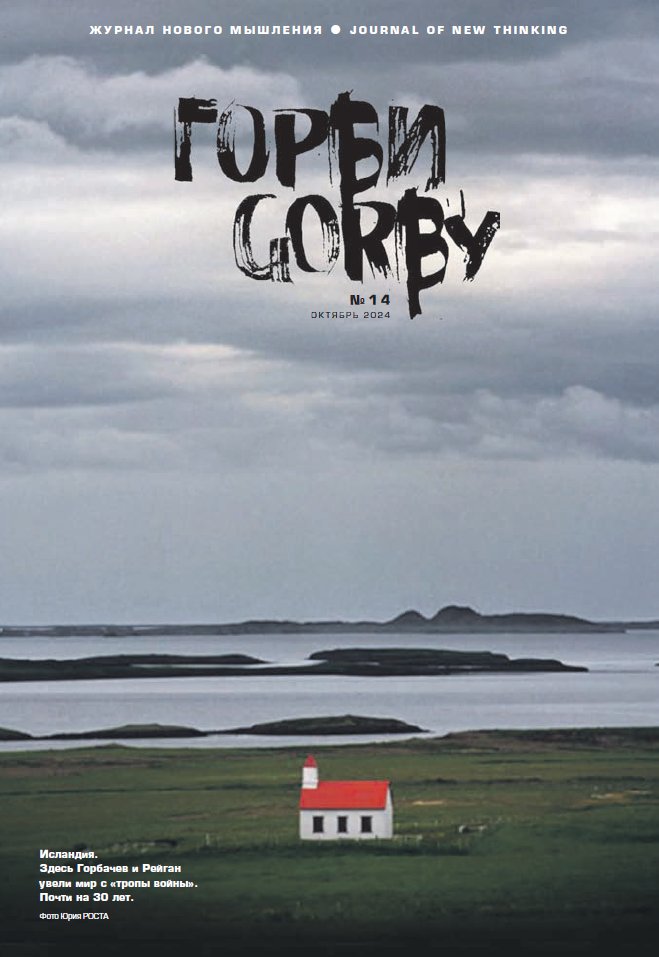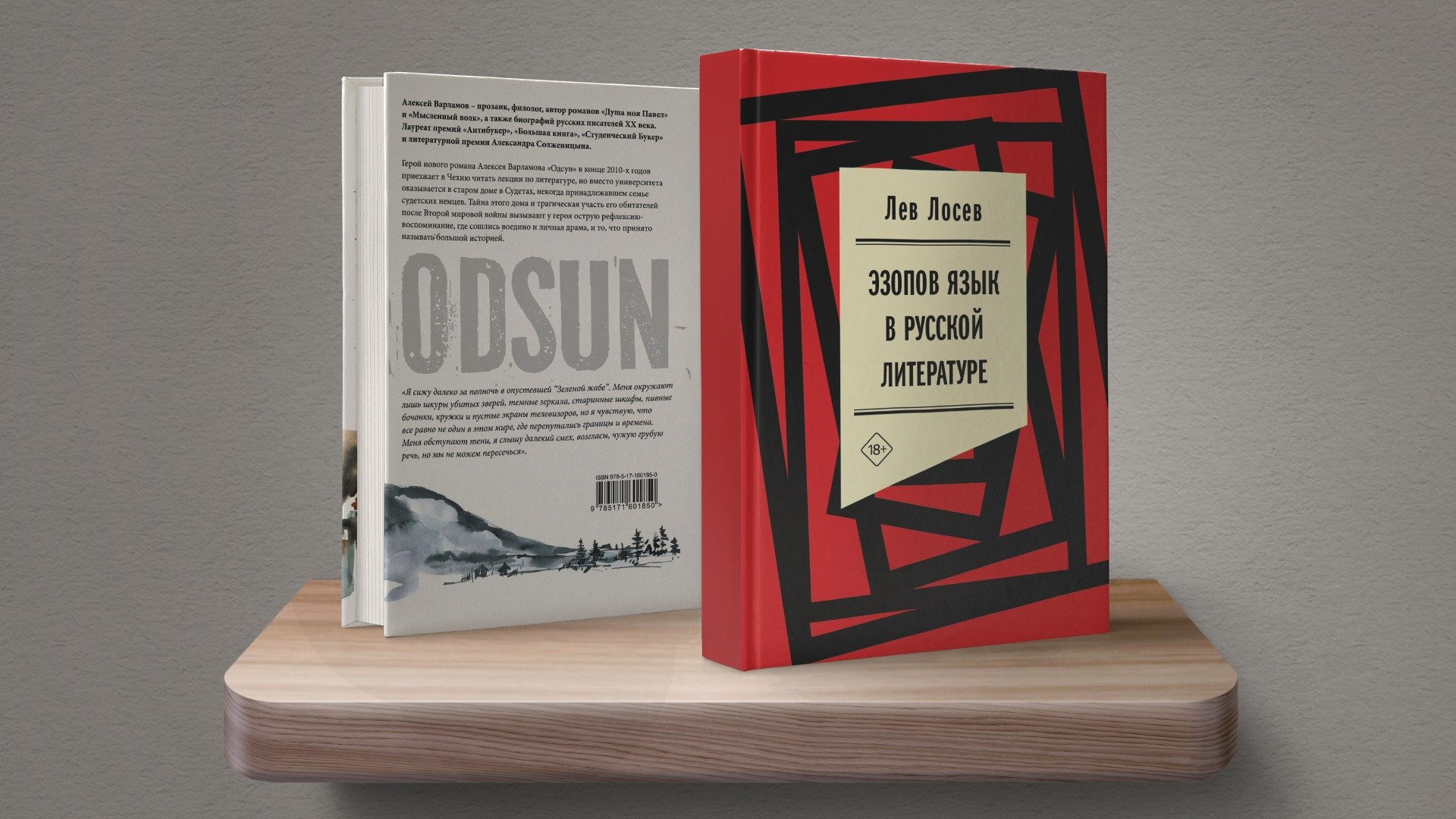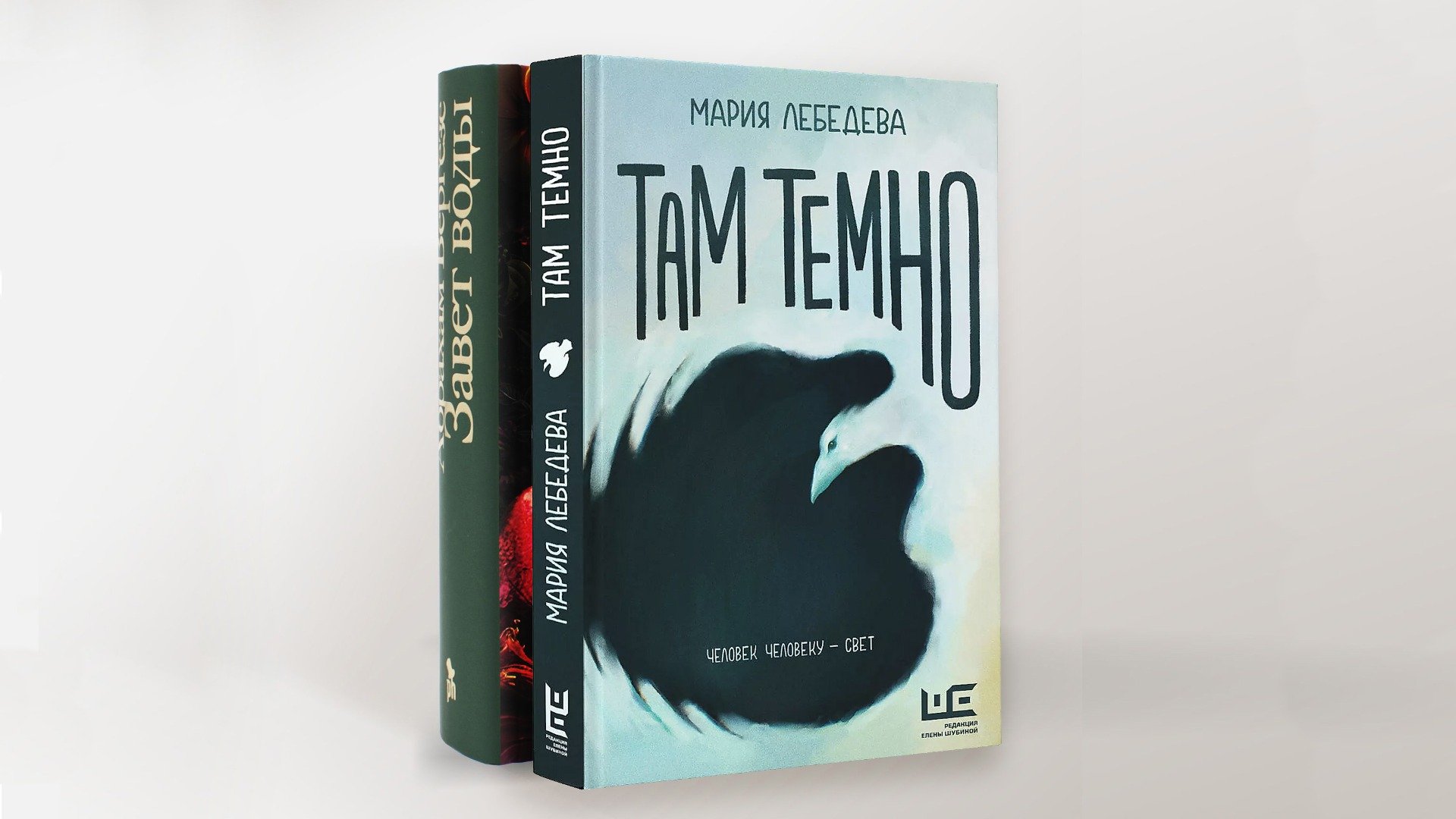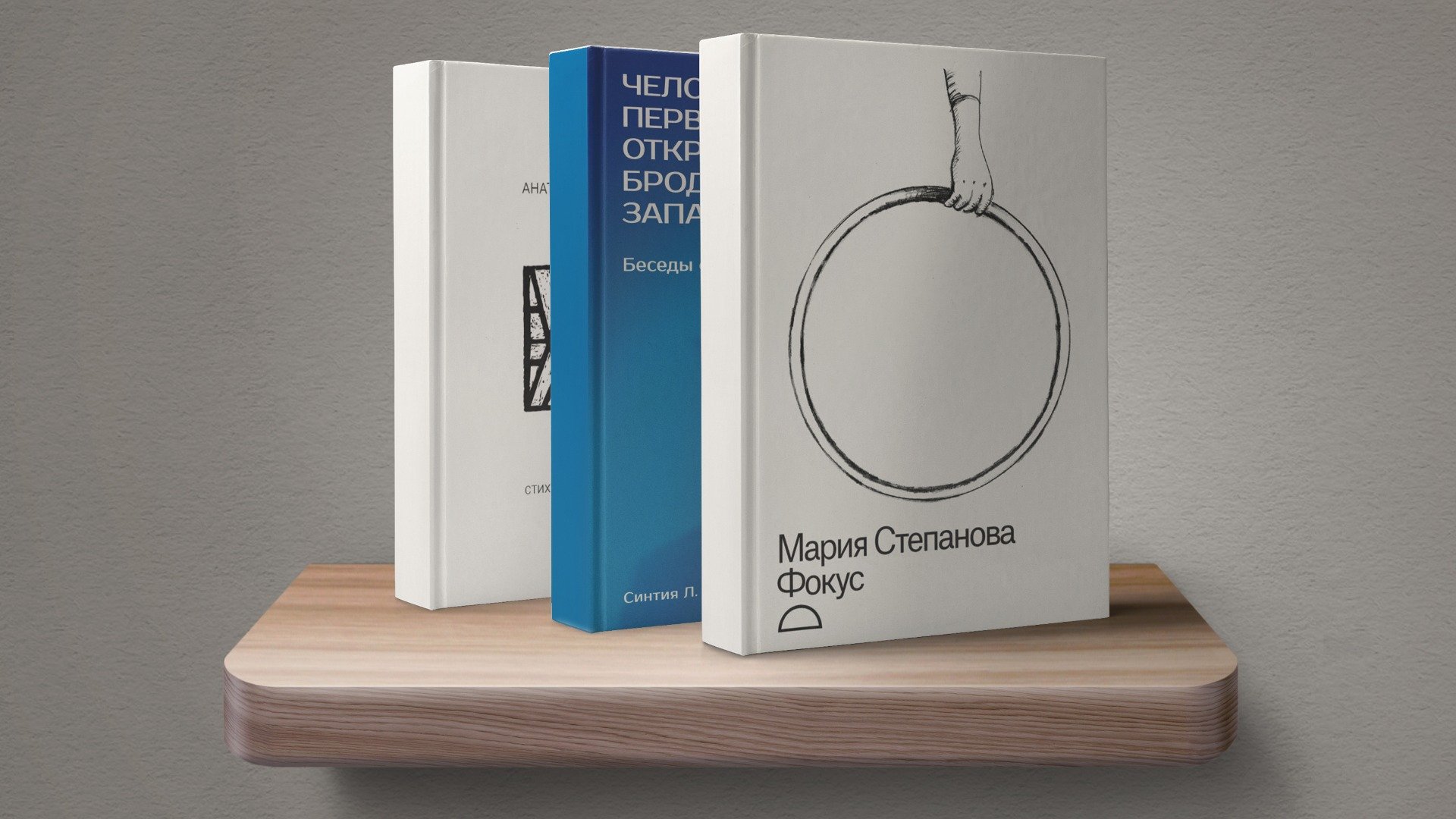
Известный писатель, литературный критик, литературовед Майя Кучерская сделала обзор новых книг, которые стоит прочитать хотя бы из-за громких имен автора повести, объекта увлекательного исследования, героя неожиданного открытия — Марии Степановой, Иосифа Бродского Анатолия Наймана.
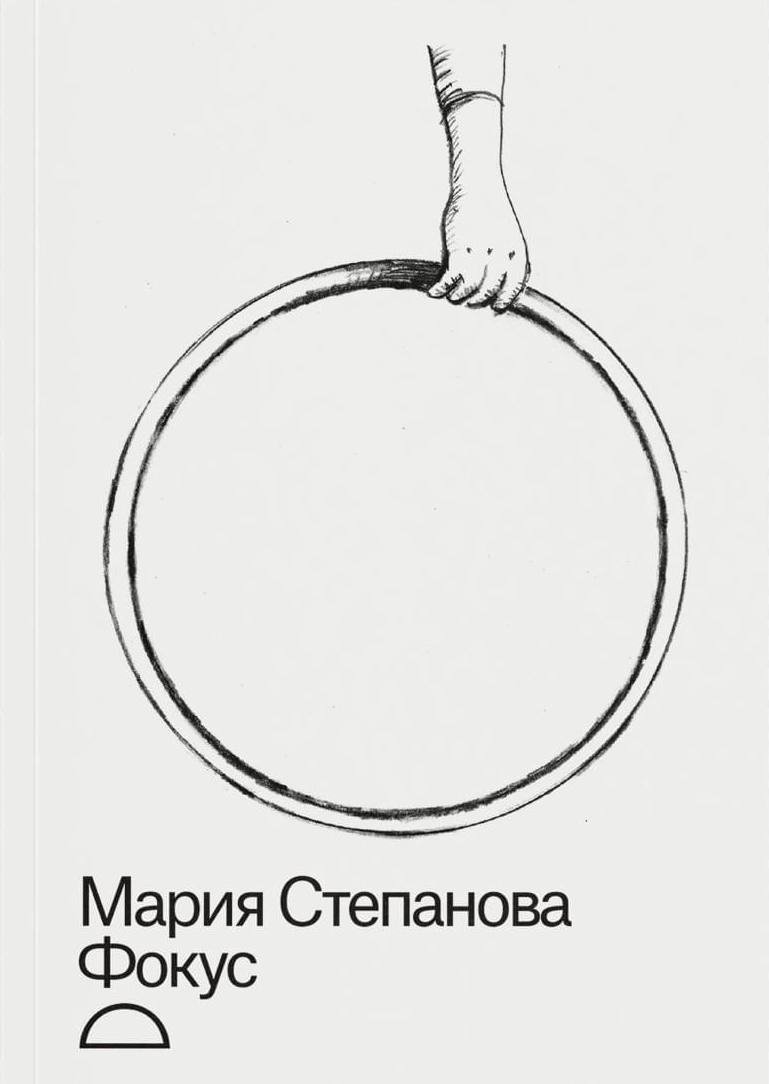
Фокус
М.: Новое издательство, 2024
Мария Степанова, поэт и эссеист, несколько лет назад сочинившая «Памяти памяти» (о себе и своих родных), написала новую книгу «Фокус». Эта небольшая повесть, несомненно, войдет в историю русскоязычной литературы эпохи военного времени.
Героиня «Фокуса» — писательница М., из страны, которая вступила в конфликт с другой страной, живет теперь в Европе, в городе Б. Летом 2023 года она едет на поезде в такой же неназванный город, на фестиваль. Тут мы ее и застаем.
Больше всего писательнице М. хочется сменить жизнь, судьбу, язык. Ее родной язык, «гибкий, выворотный, почти всемогущий», теперь вызывает недоверие: неясно, какие на нем прямо сейчас отдаются приказы, неясно, как им теперь пользоваться. Писательница больше им и не пользуется, старается на нем не говорить, на нем не пишет, считай, она уже и не писательница: «Зато кем бы она ни была теперь, кое-что неизменное в ее жизни имелось: стоило начать шарить в уме в поиске хоть каких-нибудь слов, М. чувствовала, что во рту у нее полуживая еще мышь, и выплюнуть ее никак не удавалось — она шевелилась, зажатая между зубами, и надо было то ли сжать челюсти, с хрустом перекусив ее пополам, то ли так и жить дальше с мышью во рту, ни о чем другом не думая». Держать мышь во рту человеку не пристало — типичное кошачье занятие, однако кошки в подобных случаях редко задумываются, как им поступить; с людьми, как мы видим, сложнее.
Сквозной мотив повести — озверение. Зверь живет в стране происхождения писательницы и неутомимо делает свою работу: поглощает людей. Героиня и сама «жила с ним, сколько себя помнила, то ли в одной клетке, то ли у него в брюхе, как Иона во чреве китовом, и почти не знала времени, когда зверя бы не было рядом». Не означает ли это, мучительно размышляет писательница, что звериное начало проникло и в нее, что на самом деле она — уменьшенная копия большого зверя и однажды вполне может сожрать того, кто не ответил ей взаимностью? «Мысль эта так укрепилась в М., что она иногда ловила себя на том, что изучает в зеркале свои руки: не начала ли пробиваться понемногу рыжая шерсть пониже локтя».
Надо сказать, Мария Степанова подбирает идеальный для описания этой внутренней немоты и замороженности стиль: знакомое нам по стихам и «Памяти» богатство и почти великолепие языка в «Фокусе» остужает интонация — сдержанная, отстраненная, бессильная — так говорят только перед лицом страшных утрат.
Из-за забастовок на железной дороге М. так и не добирается до фестиваля, где должна выступать, и застревает в приморском городке. На окраине его обнаруживается цирк шапито. Тут-то и начинаются такие сюжетные кульбиты и фокусы, что захватывает дух.
Неожиданно для себя героиня принимает участие в цирковом номере двух русскоязычных иллюзионисток, а читатель внезапно обнаруживает, что и он пал жертвой иллюзии: перед ним вовсе не автобиографическая проза, изящное продолжение «Памяти памяти», а придуманная история, пусть и выращенная из реальных биографических обстоятельств Марии Степановой, рожденной в СССР, ныне живущей в Европе.
Подсказки, что на самом-то деле, при всех совпадениях между МС и М., перед нами высокохудожественный вымысел, звучат со всех сторон. Одна из них — насыщенность культурного раствора в тексте. Повесть «Фокус» буквально напитана скрытыми и явными ассоциациями, отсылками к чужим фильмам и текстам — от чаплинского «Цирка» о бродяге и комедии Александрова до «Клоунов» Феллини, от пересказанных прямо в повести сочинений Пола Боулза и Паскаля Киньяра до окликнутых «Денискиных рассказов» и прозы Толстого. Пасхалочек в «Фокусе» действительно немало, но здесь игра лишена игривости, тем более высокомерия — это тихое перебирание того, что еще осталось в памяти и что пока под контролем.
Все печально, трагично, безнадежно. Как вдруг сквозь сумрак меланхолии прорываются позывные трубадура. Цирк шапито словно бы травестирует все происходящее с писательницей М., ее драма на глазах оборачивается комедией, а сама она превращается в грустного черноглазого клоуна с заломленными вверх бровями.
И рассуждения о звере и озверении, страшные, точные, обретают рифму с карнавальными escape rooms (аттракцион, нужно найти за час выход из запертой комнаты) и картами таро. На одной из них изображена дама и прирученный лев, эта карта очень нравится М., в отличие от другой, с шутом.
Шутовство оказывается главным соблазном, и М. охотно переодевается в циркачку, а потом надеется перерядиться поосновательнее, изменить свое имя и участь, не различая намеков судьбы. Между тем намеки эти звучат, пробиваются, и не только в преследующем ее вопросе, откуда вы приехали, подчеркивающем, как убеждена писательница М., насколько ты здесь чужой, но и сквозь вполне человеческие отношения с рослым красавцем блондином, случайным попутчиком из поезда, пригласившим ее в те самые escape rooms. Героиня предполагает, что ему симпатична сама по себе, какая есть, — но нет, он присутствовал на ее выступлении, он ее читал. Он читатель, она писательница. Ни сбежать, ни уклониться, шагай по начертанному местом рождения, национальной принадлежностью, призванием и языком.
Мария Степанова написала многослойную, пробуждающую и мысль, и воображение книгу о трагедии людей из так и не названной страны, живущих в состоянии великой депрессии, вынужденных перемещаться из города в город, из страны в страну, от чувства ответственности, вины — к легкомыслию, от соблазна к соблазну, из крайности в крайность — и все для того, чтобы выжить. Посетившие этот мир в его роковые минуты, пьющие из одной чаши с всеблагими, ох как рады они были бы отказаться от приглашения на этот пир, но выбора у них нет.

Мария Степанова. Фото из личного архива Марии Степановой
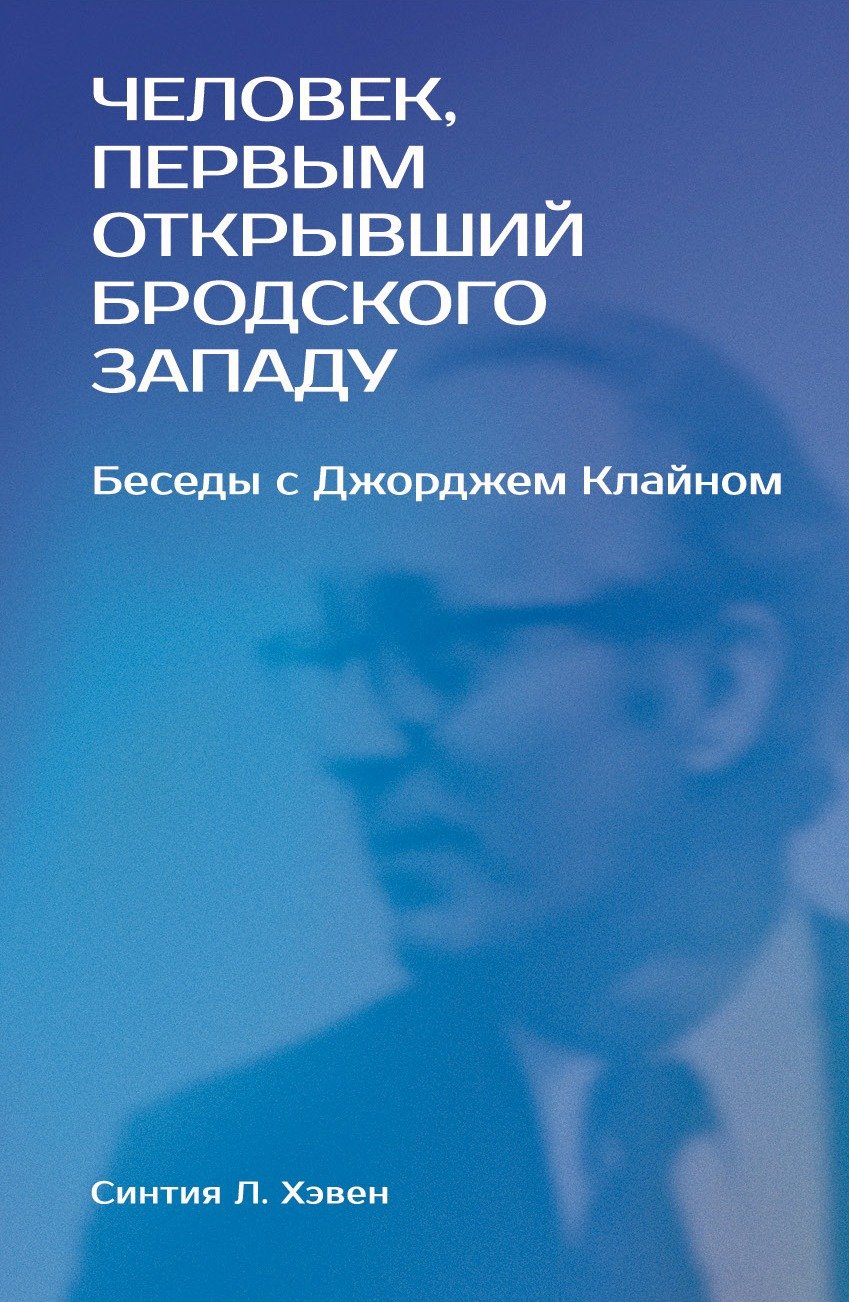
Человек, первым открывший Бродского Западу. Беседы с Джорджем Клайном
М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Однажды американская журналистка и писательница Синтия Л. Хэвен выбрала поэтический курс Иосифа Бродского, преподававшего тогда в Мичиганском университете. С тех пор фигура и поэзия Бродского стали одной из главных точек притяжения в ее работах и книгах.
Сама Синтия называет себя девушкой из Озерного края, одной из тех, кому посвящены стихи Бродского 1972 года
«В Озерном краю»:
Шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой провинции — в быту
профессор красноречия, — я жил
в колледже возле Главного из Пресных
озер, куда из недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.
Книга «Человек, первым открывший Бродского Западу» — это многосерийное интервью, взятое Синтией Хэвен у одного из лучших переводчиков Бродского Джорджа Л. Клайна. Беседа с Клайном велась в 2013 году, ему было уже девяносто два года, и вскоре его не стало. Синтия успела его расспросить — и об обстоятельствах первых англоязычных публикаций Бродского, и о том, как Клайн работал над переводами поэтического сборника Бродского на английском языке Selected Poems, и об ощущениях изгнанника в его первый американский год. Если бы не образцовые переводы Клайна, составившие Selected Poems, судьба Бродского на Западе и в самом деле могла бы сложиться иначе, но, к счастью, именно Клайн оказался очарован стихами молодого и безвестного тогда ленинградского поэта.
Как и большинство западных интеллектуалов, Клайн впервые услышал о Бродском в связи с судом над ним — в августе 1964 года сразу несколько американских изданий опубликовали стенографические записи Фриды Вигдоровой. В декабре того же года Клайн впервые прочитал «Большую элегию Джону Донну», и она буквально сшибла его с ног. «Я до сих пор, спустя столько лет, живо помню первые строки этого сильного стихотворения и отрывки из финала — то, что удалось наскоро пробежать глазами прямо там, на месте. У меня было всего десять минут, чтобы ознакомиться со стихотворением, но после первых шести строк я понял, что написал это великий русский поэт. То был миг откровения». Как только Клайну удалось получить полный вариант «Большой элегии», он немедленно перевел его и опубликовал.
Вскоре состоялось и его знакомство с автором: Клайн приехал в СССР и пришел в те самые «полторы комнаты» Бродского — в августе 1967 года. Еще год спустя Клайн перевез в Америку рукописи его стихотворений, тех самых, что потом стали основой для Selected Poems. Это оказалось очень не просто: «На границе меня обыскали, но, к счастью, не нашли стихов — я вез их в карманах куртки. Признаюсь, от страха у меня сердце упало в пятки. На мне была куртка с двумя глубокими внутренними карманами, и оба кармана оттопыривались: в них лежали напечатанные на машинке тексты Бродского — листки формата А4, сложенные вчетверо. Всего, наверное, двадцать пять или тридцать листков. Разумеется, я страшно боялся, что на границе меня обыщут. В московском аэропорту, откуда я вылетал в Амстердам, мой портфель и два чемодана досмотрели очень тщательно, досконально. Но, к счастью, меня самого обыскивать не стали».
Это было летом 1968 года. К этому времени Клайна уже дважды подробно допросили сотрудники КГБ, назвавшиеся Владимиром и Николаем, проявившими литературную эрудицию и назвавшими своего любимого поэта — Роберт Рождественский. После этого вплоть до 1991 года въезд в Россию для Клайна был закрыт, оборвались его связи со всеми, с кем он дружил, — Анатолием Найманом, Евгением Рейном, Львом Лосевым. Но и полвека спустя его продолжали терзать сомнения: не нарочно ли тогда сотрудники спецслужб позволили ему вывезти рукописи Бродского из СССР, потому что и они понимали: он великий поэт? Допустить, что они ленились, не дорабатывали, он так и не смог.
Вообще, книга Синтии Хэвен обнаруживает поразительную вещь: чтобы русскоязычному автору осуществиться, тем более на Западе, таланта недостаточно. Его талант должны оценить не один, не двое — десятки людей. Вокруг Бродского к началу 1970-х сложилась целая команда доброжелателей, поклонников и поклонниц его дара — и все они, часто сильно рискуя — как Клайн или Профферы, тайно переправляли его рукописи за границу, а затем переводили, публиковали, поддерживали, продвигали. Выход Selected Poems в знаменитом издательстве «Пингвин» (что само по себе удача для русскоязычного автора неслыханная) — результат огромных усилий множества людей.
Например, на вопрос Клайна, с чьим предисловием ему хотелось бы видеть этот сборник, Бродский немедленно ответил: «Одена». И Клайн добился от Одена этого предисловия. Оден написал свои комплиментарные странички (как незадолго до этого и к сборнику Вознесенского). Клайну захотелось порадовать Бродского еще до публикации. В итоге предисловие было перепечатано на двух листках папиросной бумаги через один интервал, а листки отправлены в Советский Союз с оказией. Однако Майкла Керрана, согласившегося на авантюру, на границе с Финляндией «подвергли дотошному личному досмотру». «Пограничник пошарил даже под подкладкой сумки, но не нащупал небольшой бумажный квадратик — попросту не дотянулся. В начале мая Керран вручил листки Иосифу».
Помимо детективных подробностей переправки рукописей Синтия Хэвен подробно обсуждает с Клайном и переведенные им стихи, борьбу с непереводимыми на английский дактилическими рифмами, которые так любил Бродский, поиски лучших ритмических и лексических решений. Постепенно Бродский все активнее настаивал на своих вариантах переводов и перестал обращаться к неуступчивому Клайну, тем не менее добрые отношения между ними сохранились на всю жизнь.
Беседа Синтии Хэвен полна увлекательных и новых в бродсковедении деталей и эпизодов. Напоследок еще один: Клайн участвовал во Второй мировой войне, был летчиком, совершил 50 вылетов с аэродромов Италии. Бродский живо интересовался его военным опытом, а на последнем своем дне рождения в мае 1995 года никак не хотел расставаться со штурманской военной фуражкой Клайна, которую Джордж дал ему поносить. «Чувствую себя так, словно я был частью Второй мировой войны», — говорил Бродский. Лишь в 2010 году она вернулась к хозяину — заношенная, истертая, Бродский носил ее, почти не снимая.

Синтия Л. Хэвен. Фото: Margo Davis
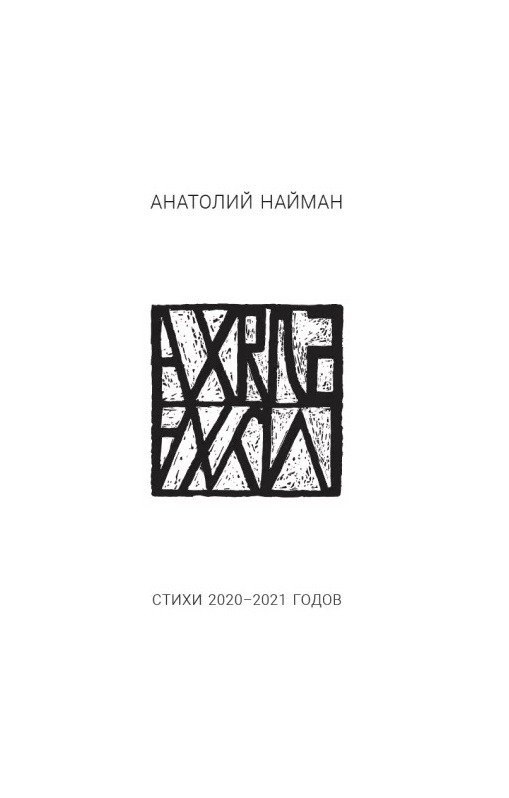
«<бляха-муха>». Стихи 2020–2021 годов.
Jaromr Hladk press, Санкт-Петербург, 2024
«бляха-муха» — последний сборник Анатолия Наймана (1936–2022), поэта, эссеиста, писателя, в молодости — литературного секретаря Анны Ахматовой, входившего в легендарную четверку поэтов (вместе с Бобышевым, Рейном и Бродским), которую она называла «волшебным хором».
Сборник создавался в течение двух лет, с 2020 до конца 2021 года, то есть почти до смерти, наступившей в январе 2022 года. Он был обнаружен профессором Принстонского университета Юрием Левингом на жестком диске ноутбука, переданном в принстонскую библиотеку вместе с архивом Анатолия Наймана в 2022 году.
Выход этого сборника расставляет последние знаки препинания в литературной биографии Наймана, окончательно прописывая его в вечности, в звании единственно, кажется, значимом для него — поэта.
Многие стихи этой прощальной книги исполнены в соответствии с лучшими традициями «темной поэзии» эпохи барокко ленинградской четверкой искренне чтимого, когда стихотворение — шифр, загадка, которую в силах разгадать лишь посвященные.
В сборнике «бляха-муха» перед нами часто языковая вязь, тайнопись, пазлы, которые с трудом складываешь в смыслы: «Возможно, в тот миг и вплелись подсознаньем в словарь, // как с крахом характер, как с гибельным краем краюха, // взамен междометий и швеек — абсурд и букварь, // чета кавалерш, дамы ордена — бляха и муха».
В иных стихотворениях проступает ясный сюжет и сквозной образ («Набросок», «Жизнь одного артиста», «Амбиция бытия»), но значительно чаще эти стихи выглядят как постоянное, едва ли не ежедневное ощупывание языком слов, их звуковой оболочки, спрятанных в них значений и оттенков смыслов: «Дхнет… Не гнет, не схамит, не пхнет, а дхнет. Доброе слово. // Дромадерное этако, одногорбое, // без мослов. Всех делов что глазунье-голово. Перво дхнет — хлябь ливмя: но со стержнем. Не гнуче-коброе // И тэдэ. Идеал. Одалиска. Флакон О-де-Кёльн…»
Многие стихотворения здесь напоминают то ли воспоминание, то ли чтение вслух словаря, разных словарей — синонимов, летнего леса, прошлого, любви, жизни. 102 прощальных стихотворения Анатолия Наймана оказались влюбленной молитвой языку, кадишем, литургией Слову.

Анатолий Найман. Фото: Анна Артемьева