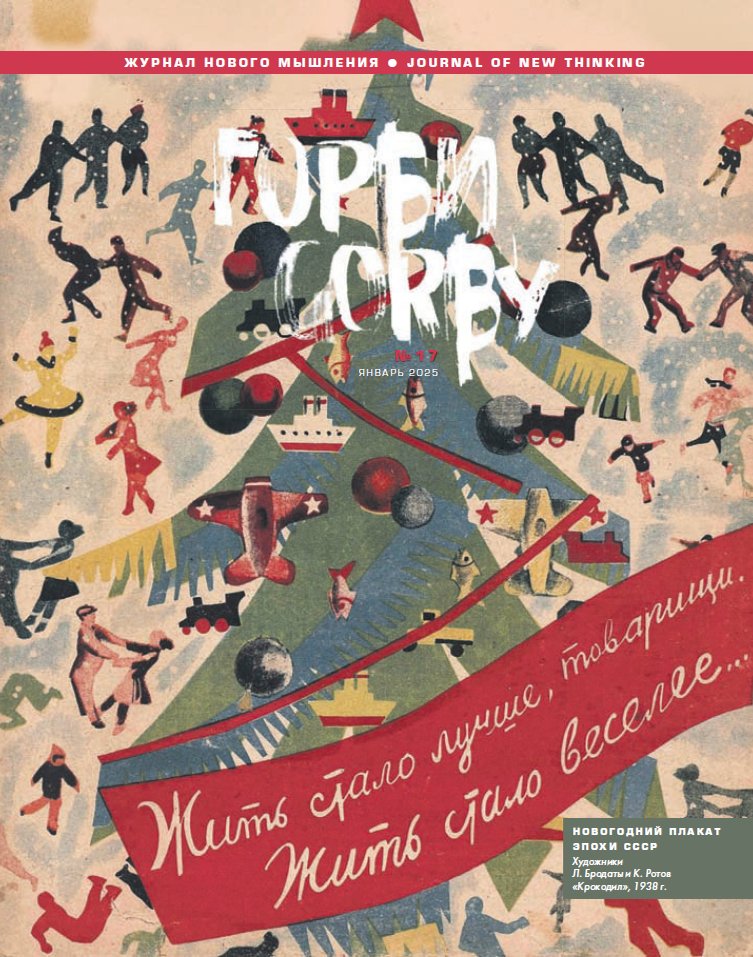Саммит в Рейкьявике. Встреча Горбачева и Рейгана. Фото: Bettmann
Я не знаю, кто и по каким критериям подбирал переводчиков для начавшихся 30 ноября 1981 года в Женеве переговоров об ограничении ядерных вооружений средней дальности, но выбор пал в том числе и на меня. Вместе с моим коллегой Михаилом Беликовым мы проработали там, что называется, от звонка до звонка.
К тому времени я уже переводил на разных переговорах по вопросам безопасности и, в общем, представлял роль переводчика и технологию работы. Понимал, как важно доверие — профессиональное и человеческое. Мы оба — и я и Миша — считали, что к работе готовы. И оба понимали, что эти переговоры — необычные, что очень много в Европе и в мире завязано на их результат.
Перед любыми переговорами переводчик получает определенный объем информации для подготовки к ним. Но признаюсь честно: «по работе» мы ее получили маловато. Многое было засекречено. Об истории развертывания наших ракет СС20, из-за которых разгорелся весь сыр-бор, мы знали только из зарубежных СМИ (мы, например, не знали, что по советской классификации ракета называлась «Пионер»). У нас даже не было полного текста натовского «двойного решения» о готовности и к развертыванию аналогичных ракет, и к переговорам. О позиции СССР мы знали только из интервью Л.И. Брежнева в газете «Правда».
Переговоры — процесс познания. В том числе, конечно, для переводчика. Многое узнаёшь, слушая другую сторону. Кое-что — слушая свою. И постепенно понимаешь, что у обеих сторон есть своя логика.
«Двойное решение» НАТО было с порога отвергнуто советской стороной как пропагандистский маневр. И этот элемент в нем, безусловно, был. И европейцы, и администрация Джимми Картера понимали, что развертывание американских ракет на Европейском континенте в ответ на появление там советских СС20 вызовет протест. Его надо было смягчить. Отсюда решение: вывести из Европы 1000 ядерных боезарядов и «втиснуть» новые ракеты в этот пониженный уровень. Но именно за это могла ухватиться советская сторона, предложив диалог по всему комплексу ядерных вооружений в Европе. Этого не произошло.
Отвергать предложение о переговорах и продолжать в прежнем темпе программу развертывания СС20 было ошибкой. После выборов 1980 года Картера сменил Рональд Рейган, и позиция США ужесточилась. Рейган предложил «нулевой вариант», касавшийся только ракет. Внешне он выглядел очень привлекательно, и отстаивать советскую позицию стало гораздо труднее.
Но и в тогдашней советской позиции была логика. Прежде всего, как мне кажется, психологическая. К 1979 году прошло всего тридцать с небольшим лет после окончания Второй мировой войны и восемнадцать — после Карибского кризиса.
Отстать от «потенциального противника» в любой категории вооружений казалось советским руководителям недопустимым, немыслимым.
В упорстве, с которым американцы отвергали любое рассмотрение на переговорах ядерных вооружений своих союзников Великобритании и Франции и американских ядерных средств передового базирования, способных достичь территории СССР, виделся подвох и стремление к военному превосходству. За ракеты СС20, технически очень удачные, ухватились как за шанс не допустить этого.
Но в итоге возможности нашей делегации в Женеве оказались довольно ограниченными. Это было ясно с самого начала. Да, в Европе разрасталось движение протеста против американских ракет, и мы знали, что в США опасались, не дрогнут ли европейские парламенты, когда подойдет назначенный срок их развертывания (конец 1983 года). Но рассчитывать только на это и стоять все в той же позиции на переговорах — это тоже оказалось ошибкой.
Конечно, люди в обеих делегациях постоянно обо всем этом думали. И это были незаурядные люди. В своей книге «Профессия и время» я рассказал, прежде всего, о главах советской и американской делегаций — Юлии Квицинском и Поле Нитце. Оба мыслили масштабно. Оба искренне хотели достичь договоренности. И в этом смысле они доверяли друг другу.
Технология переговоров была такова. В ходе каждого раунда, длившегося примерно два месяца, раз или два раза в неделю делегации встречались в полном составе. Главы делегаций зачитывали тексты выступлений, отражающих разные аспекты официальной позиции сторон. После этого главы, члены и советники делегаций беседовали со своими визави по отдельности. Особенно интересными были, конечно, беседы глав делегаций, иногда один на один, иногда с участием их заместителей. У Квицинского это был генерал-лейтенант Н.Н. Детинов из отдела оборонной промышленности ЦК КПСС, у Нитце — посол Мейнард Глитман из Госдепартамента. По моим впечатлениям, они не были своего рода «смотрящими», скорее это были люди, полностью разделявшие подход к переговорам глав делегаций и стремившиеся помочь им в поисках выхода из тупика, ощущавшегося в ходе переговоров все более остро.

Ноябрь 1981 года. Начало переговоров. Нитце — Квицинский. Фото: Bettmann
В самом начале Нитце как-то сказал Квицинскому:
— Вы молодой человек (Квицинскому тогда было 45 лет. — П.П.), у вас еще будут другие переговоры. А для меня эти переговоры — последние (Нитце было 75. — П.П.). Так что я здесь не для того, чтобы «отбыть номер». Я хочу разумной, справедливой договоренности.
И надо сказать, что в тех жестких рамках, которые их невероятно стесняли, оба делали все возможное для поисков такой договоренности.
Квицинский отлично владел не только своим первым иностранным языком — немецким (значительная часть его карьеры прошла в ФРГ), но и английским. Так что я ему не всегда был нужен, и на знаменитую встречу с Нитце, вошедшую в историю как «прогулка в лесу», он ездил один. Но все официальные разговоры «под запись» проходили с переводом, и иногда он задавал мне непростые задачки. Так, на одной из первых встреч делегаций, в начале которой присутствовала пресса, он сказал Нитце:
— Ваш нулевой вариант — это для нас дырка от бублика. На такой основе мы не договоримся.
Это была, наверное, импровизация. Думаю, Квицинский понимал, что у переводчика может не найтись хорошего варианта для такой довольно редкой метафоры. Но я нашелся. Недавний опыт жизни в Нью-Йорке подсказал: the hole of the doughnut.
В составе делегаций были представители разных ведомств, люди разного калибра и характера. И я бы сказал, разной готовности к переговорам и квалификации для их ведения. Генштаб первоначально представлял генерал Ю.В. Лебедев. Он пару паз отметился во время бесед и заседаний рабочих групп заявлениями, которые главе делегации пришлось «корректировать». После первых двух раундов переговоров его сменил полковник, впоследствии генерал В.И. Медведев — умный, широко образованный и тактичный человек.
МИД представлял Лэм Александрович Мастерков. Человек скромный и не очень заметный, в том числе, может быть, из-за невысокого роста. Он отличался поистине энциклопедическими знаниями в области ограничения и сокращения вооружений. Это был, конечно, типичный осторожный мидовец, но постепенно мы стали общаться более откровенно. Тупиковая ситуация на переговорах огорчала его чем дальше, тем больше, хотя свои настроения он камуфлировал иронией и своим любимым афоризмом:
— Меньше знаешь — лучше спишь.
Огорчение и досада становились заметны и в настроении глав делегаций. Это стояло и за «прогулкой в лесу», за которую и Квицинский, и Нитце получили что-то вроде нагоняя в своих столицах, и за другими, более скромными попытками сдвинуть дело с мертвой точки. Вариант, обсуждавшийся на «прогулке», который я тогда представлял себе в очень общих чертах (его детали знал и одобрил только генерал Детинов), казался мне нереальным. Как могло советское руководство такое проглотить: СССР должен был бы сокращать и под контролем ликвидировать ракеты, в то время как США развертывали бы свои (правда, в этом случае только медленно летящие крылатые ракеты наземного базирования). Другое дело, если бы что-то подобное было предложено двумя годами раньше — тогда и ракет было развернуто меньше, и какие-то другие, устаревшие, вооружения можно было бы заодно подсократить (что, кстати, и было сделано в массовом масштабе после подписания Горбачевым и Рейганом договора РСМД).
Еще одна возможность была в марте-апреле 1983 года. Рейган предложил заключить «промежуточное соглашение» с глобальным ограничением количества боеголовок ракет средней дальности на любом уровне от 50 до 450 единиц, «имея в виду в конечном счете ликвидировать их». Конечно, в таком виде принять это предложение было бы вряд ли возможно, но можно было, по крайней мере, заявить о готовности его рассмотреть и обсудить детали на переговорах. Но через два дня после выступления Рейгана СССР официально заявил, что оно неприемлемо.
В общем, летом и осенью 1983 года настроение в советской делегации и, как мне казалось, в американской неуклонно ухудшалось. То ли для подъема духа, то ли еще почему-то Нитце решил устроить прием на борту теплохода, курсировавшего по озеру Леман.
Погода была приятная, в сгущающейся темноте на небе проступали звезды, шли обычные на таких встречах ни к чему не обязывающие разговоры. Обычно мы общались с коллегами-переводчиками, но довольно неожиданно ко мне подошел советник американской делегации и стал, что называется, в лоб интересоваться, что в Москве говорят о состоянии здоровья Ю.В. Андропова. Получив соответствующий честный ответ («не знаю, не ведаю»), собеседник перешел к оценке достоинств и недостатков швейцарских вин. Потом оказалось, что такой же вопрос задавали и другим советским участникам «круиза».
Когда стало ясно, что размещение ракет вот-вот начнется и придется прервать переговоры, Квицинский подготовил проект заявления, который утвердили в Москве. Оно было зачитано им на последнем заседании очередного раунда и затем слово в слово повторено прессе, собравшейся у входа в американское представительство. Сформулировано оно было дипломатично: в связи с началом развертывания американских ракет, что коренным образом меняет стратегическую ситуацию, советская сторона заявляет о прекращении данного раунда переговоров без объявления даты их возобновления. То есть дверь была оставлена приоткрытой.
Но на другой день в программе «Время» зачитали заявление Андропова, который уже не появлялся ни на публике, ни даже по телевидению, и все эти дипломатические тонкости пошли прахом.
Советский Союз уходит с переговоров по ракетам средней дальности (чуть позже было объявлено, что и с переговоров по стратегическим вооружениям), и они могут быть возобновлены только после вывода американских ракет из Европы.
Реакцией нашей делегации, слушавшей этот текст в полном составе, было молчание. Все сидели с каменными лицами.
Через год, уже при Черненко, пришлось придумывать мудреную формулу нашего возвращения на переговоры: стратегические вооружения, ракеты средней дальности и проблема ПРО объединяются под единой «крышей», и на такие переговоры мы готовы пойти. Говорили, что на Черненко смог повлиять академик Г.А. Арбатов. Но выглядело это довольно неуклюже.
Слава богу, история последующих переговоров и достижения договоренности по ракетам средней и меньшей дальности — уже совершенно другая. В ней я тоже участвовал, но в другом качестве. Груз прежних ошибок и упущенных возможностей пришлось нести М.С. Горбачеву. За неизбежные и необходимые уступки и компромиссы он — воспользуюсь здесь грубым словечком — огреб по полной, особенно за включение в договоренность ракеты «Ока» (СС23). Но здесь процитирую Н.Н. Детинова: «Если бы СССР оставил эти ракеты на вооружении, в Европе, несомненно, были бы развернуты и новые американские ракеты «Лэнс2». В результате повторилась бы ситуация с ракетами СС20 и «Першинг2». Но принятое решение не только предотвратило такое развитие событий, но и открыло возможность пойти в 1991 году на меры, ведущие к сокращению тактического ядерного оружия. В этом смысле шаг Горбачева исторически оправдан».