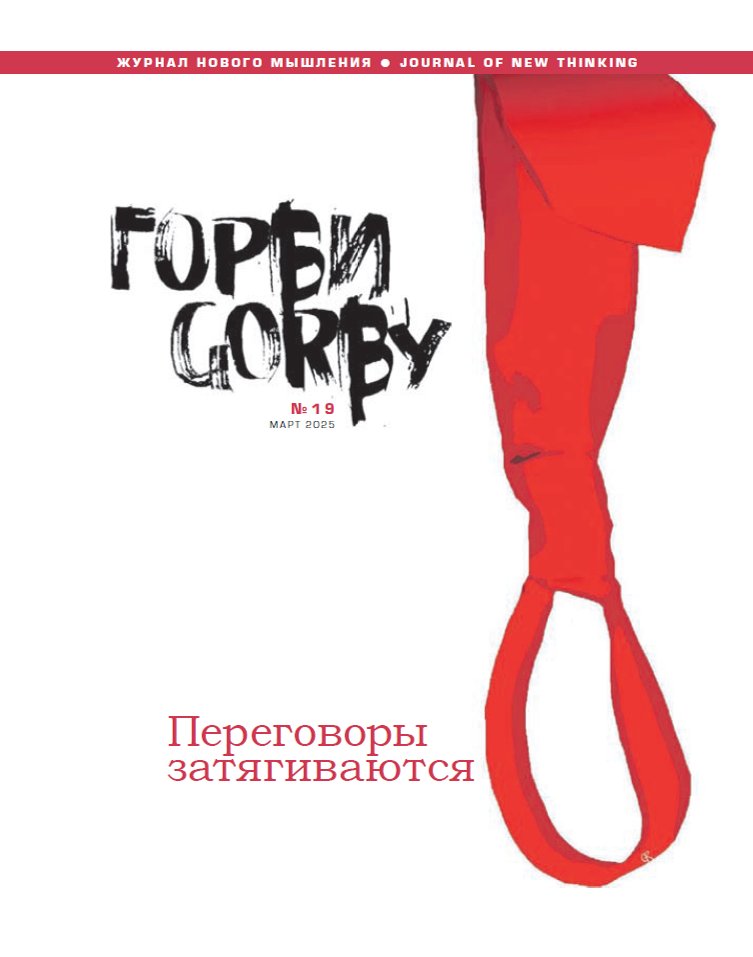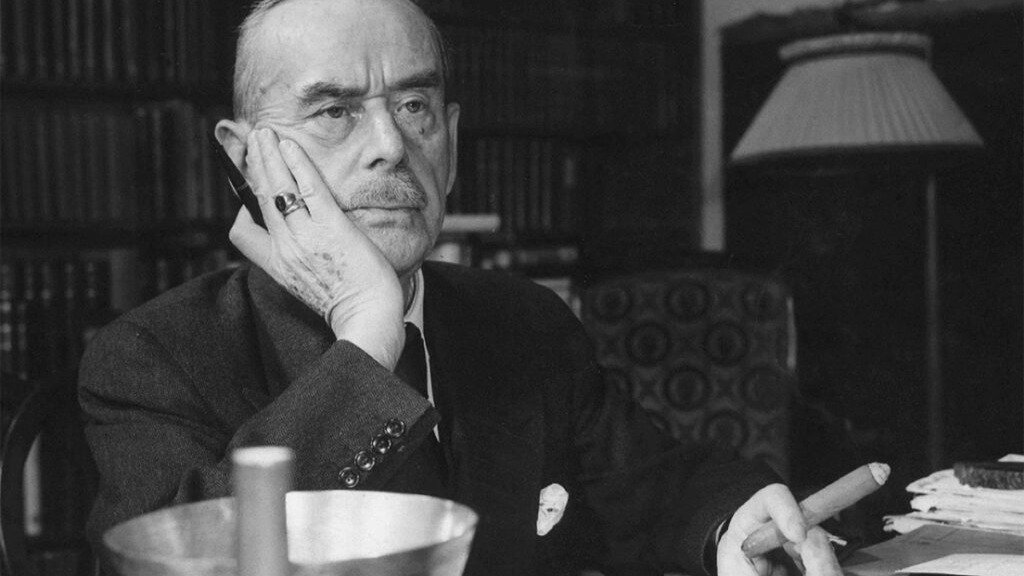Виктор Пелевин. Фото: Анатолий Антонов / PhotoXpress
Случилось то, о чем можно было только мечтать: обо мне написал классик. Прямо скажем, плохо написал. И то, что это обо мне, не все догадаются. Поэтому перескажу.
В последнем на сегодняшний день романе Виктора Пелевина «Круть» пародийный двойник автора, самый знаменитый русский писатель современной (то есть нашей) эпохи Шарабан-Мухлюев, сообщает в своем эссе, что русская литература находится под контролем ЦРУ: «А знаешь ли ты, читательница, кто назначает русских писателей большими, значительными, крупными и великими? ЦРУ. Цэ-рэ-у. И никто другой».
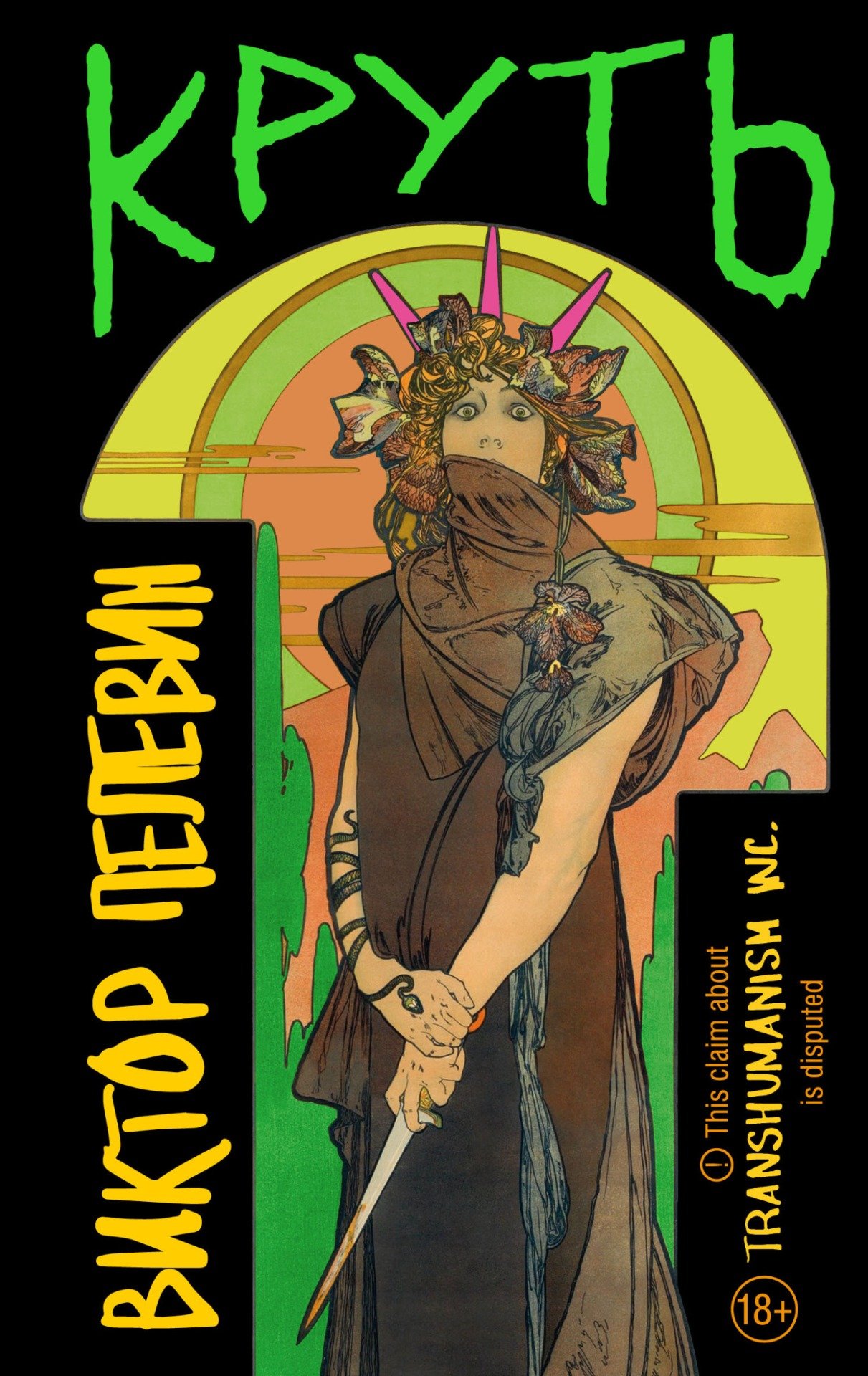
Всезнающий Шарабан-Мухлюев объясняет, кто именно руководит русскими писателями: «…им недавно назначили в русский отдел нового куратора современной русской литературы. По черной транс-квоте. Оне раньше были механиком в Детройте, а теперь от них в мужском туалете пол-Лэнгли шарахается. Оне вообще-то в женский ходят, а в мужской забредают по старой памяти, когда крэком удолбятся», — в этой цитате сразу чувствуется весь букет ценностей, дорогих сердцу… ну, разумеется, Шарабан-Мухлюева. Но это еще не я. «Оне сами только крэк курить могут и за демократов голосовать. Поэтому всю текучку спустили на главного консультанта. А это кто? Правильно, профессор Козловицер из Колумбийского университета».
Хотя моя фамилия не похожа на Козловицер, я и вправду работаю в Колумбийском университете и действительно иногда пишу о современной русской литературе. Пелевин не слишком хорошо знаком с моими публикациями (скажу только, что их значительно больше, чем у его персонажа), однако он приписывает мне громадную власть: это ведь он (то есть я) «теперь определяет, кто у нас великий, кто значительный, кто крупный, — и не просто на ютубе пованивает, а решает по линии самого ЦРУ. И если ты с ним в Москве не пил до его отъезда, то звать тебя никак и статус у тебя в мировой культуре вообще никакой». Оскорбленный Шарабан-Мухлюев обращается к руководству ЦРУ и Колумбийского университета с требованием уволить меня… то есть Козловицера. «…ребята из ЦРУ, мы же не природные враги! Давайте осторожно продвигать вместе консервативную повестку, это в наших общих интересах. Только увольте этого козла. Я не про черного трансмеханика из Детройта, я все понимаю, — но увольте этого Козловицера! Сколько вреда он принес русской литературе». Впрочем, возможно, у меня разыгралась мания величия, и Пелевин не меня имел в виду и не реагировал таким образом на мои резкие высказывания о его позднем творчестве?
Конечно, Пелевин не простак, и его Шарабан-Мухлюев слишком карикатурен и откровенен в своей ненависти, чтобы перепутать его с автором. Но опытные читатели Пелевина хорошо знают об его умении пробрасывать любимые мысли, используя иногда очень малосимпатичных персонажей. Кроме того, в романе Шарабан-Мухлюева никто не опровергает, и это эссе играет роль тайного сакрального текста в сюжете «Крути».
Я бы, конечно, расстроился от того, что когда-то любимый писатель публично оскорбляет персонажа, чем-то похожего на меня, если бы не одно обстоятельство. Этот роман никто из моих знакомых или не очень знакомых не читал. А ведь романы Пелевина регулярно объявляются лидерами продаж. Но те, кто раньше истово следил за его творчеством, почему-то перестали им интересоваться. Кто-то остановился на «Священной книге оборотня» (2003), кто-то на S.N.U.F. F. (2011), а самые продвинутые — на IPhuck (2017).
Предполагаю, что именно это обстоятельство так сердит Виктора Олеговича. Как сказано в редакторской врезке к рецензии Льва Оборина на «Путешествие в Элевсин»:
«Чтение каждого нового романа Виктора Пелевина все больше напоминает не прикосновение к творчеству живого классика русской литературы, а сезонную спортивную забаву».
Действительно, Пелевин выходит 100-тысячными тиражами и хорошо продается, но его поздние романы больше не вызывают дискуссий, не цитируются, не исследуются и, увы, не переводятся, как раньше. S.N.U.F.F. — последний роман, вышедший на английском. (После него был перевод более раннего Empire V.) Кто в этом виноват? См. выше — политкорректность, ЦРУ и русские эмигранты (см. сноску 1).
Чем этот набор личных врагов Виктора Олеговича отличается от «геополитических» врагов современного государства Российского? Разве что отсутствием в этом списке украинцев и Зеленского.
А от объектов трамповской ярости? Возможно, только присутствием ЦРУ и российских эмигрантов. Сходство трампистов с Шарабан-Мухлюевым проявляется даже в неприязни к Колумбийскому университету.
Пелевин стал важнейшим, возможно, даже «главным» российским писателем 1990-х и начала 2000-х годов, потому что из вавилонского столпотворения языков, нашествия вещей и идей, происходившего в первые постсоветские десятилетия со всеми их катастрофами и откровениями, он сумел создать новый язык. Остроумный, яркий, точный. И предельно современный.
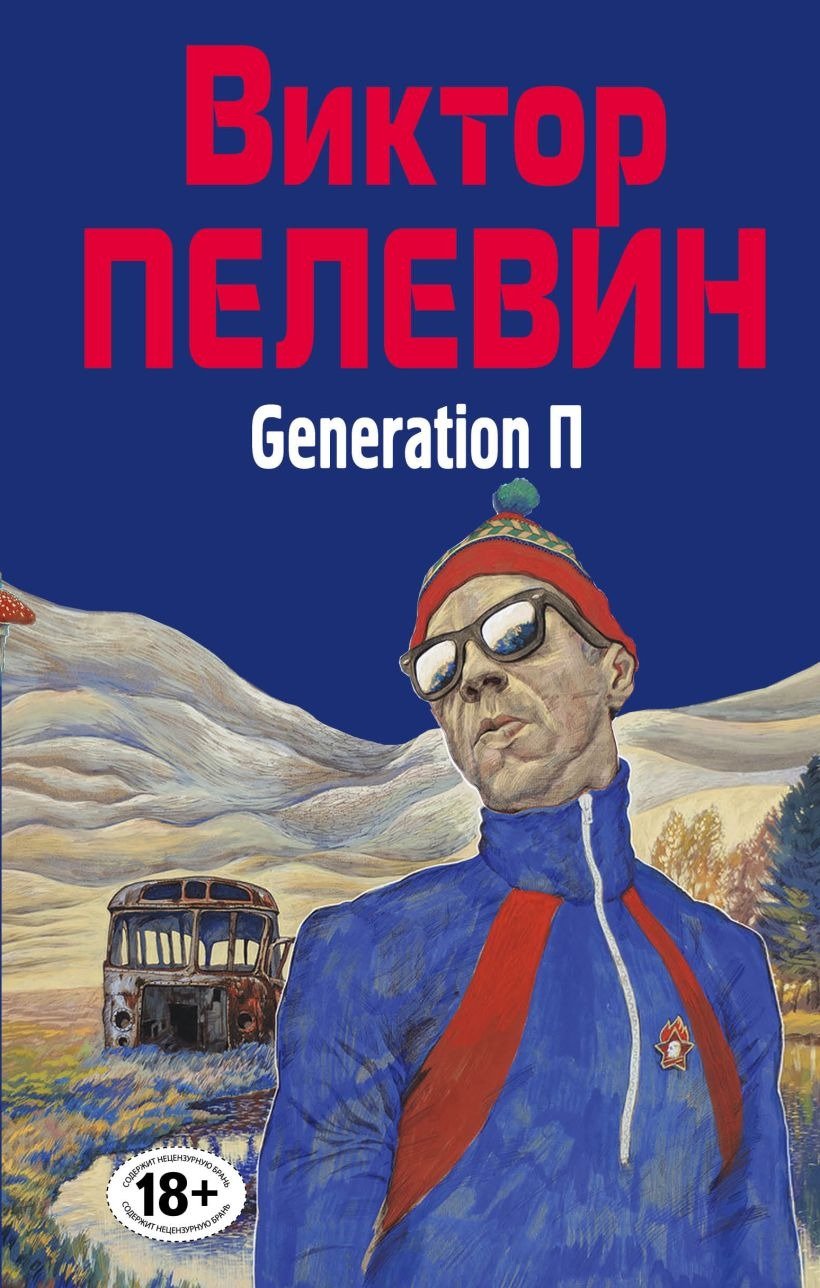
Лучший памятник этого языка — «Generation П» (1999), который и сегодня читается как великолепный удавшийся эксперимент. В этом романе, кажется, ему удалось не только угадать, но и запрограммировать будущее. В нем и, конечно, в романе «Чапаев и Пустота» (1996) сложился узнаваемый стиль Пелевина, всегда и во всем сталкивающего наисовременнейшие детали с их якобы метафизической интерпретацией, которая, в свою очередь, обязательно оборачивается чем-то иным — то ли симуляцией, то ли чистой лирикой. Этот стиль в паре с сорокинскими жестокими играми с «большими стилями» определил диапазон того, что называли русским постмодернизмом.
Постмодернизм, который сейчас принято обвинять во всех смертных грехах, возник и на Западе, и в России как язык критики той системы идей и ценностей, которая доминирует в культуре. Критики, которая не ищет революций, а размывает (деконструирует) фундаментальные для любой репрессивной культуры оппозиции — между мужским и женским, высокой и массовой культурой, центром и периферией и т.п. И в этом качестве постмодернизм был очень эффективен и в 1970-е (Венедикт Ерофеев), и в 1990-е — ранние 2000-е (Пелевин и Сорокин).
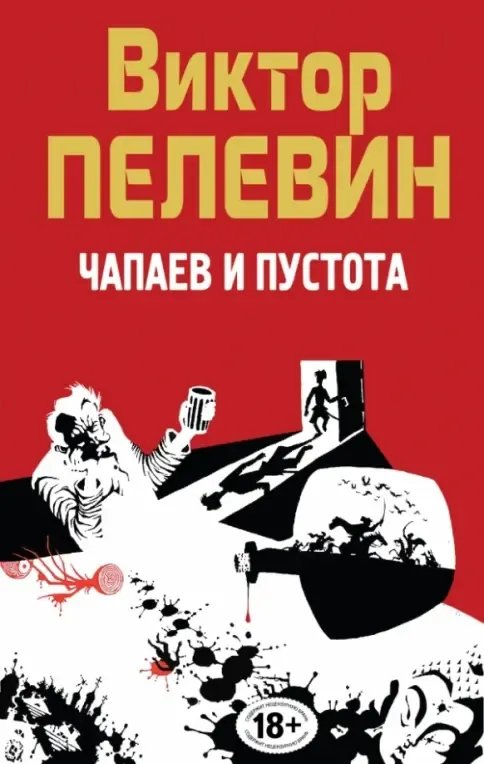
Уже в 2010-е постмодернизм стал чем-то вроде российского мейнстрима, лишившись того радикального начала, которое в нем присутствовало, и сократился до модного жаргона, имитировавшего скепсис и промоутировавшего цинизм. Пелевин внес свой, и немалый, вклад в этот мейнстрим. Именно Пелевин произвел его радикальную трансформацию. Начав как постмодернист и оставаясь виднейшим российским постмодернистом, Пелевин в средине 2010-х приходит к эффекту, подобному тому, что использовался в соц-арте: чтобы окончательно добить объект критики, надо с ним почти неразличимо отождествиться. Так Комар и Меламид писали образцовые соцреалистические картины про Сталина и муз, вызывавшие куда более мощный эффект, чем горячие доказательства неправдивости соцрeализма. Пелевин такую процедуру проделал с постмодернизмом: чем глубже его метод укореняется в тропах и приемах постмодернизма, тем агрессивнее он оборачивается против постмодернистской философии. Иными словами,
Пелевин пытается сохранить постмодернистский язык, но освободить его от постмодернистской идеологии, развернув его против постмодернистских ценностей.
Можно сказать, что «Священная книга оборотня» (2003) была его последним романом, в котором, мягко говоря, консервативная повестка еще не доминировала над всем, а артикулировалась не самым симпатичным персонажем, оборотнем в погонах генерала ФСБ Сашей Серым.
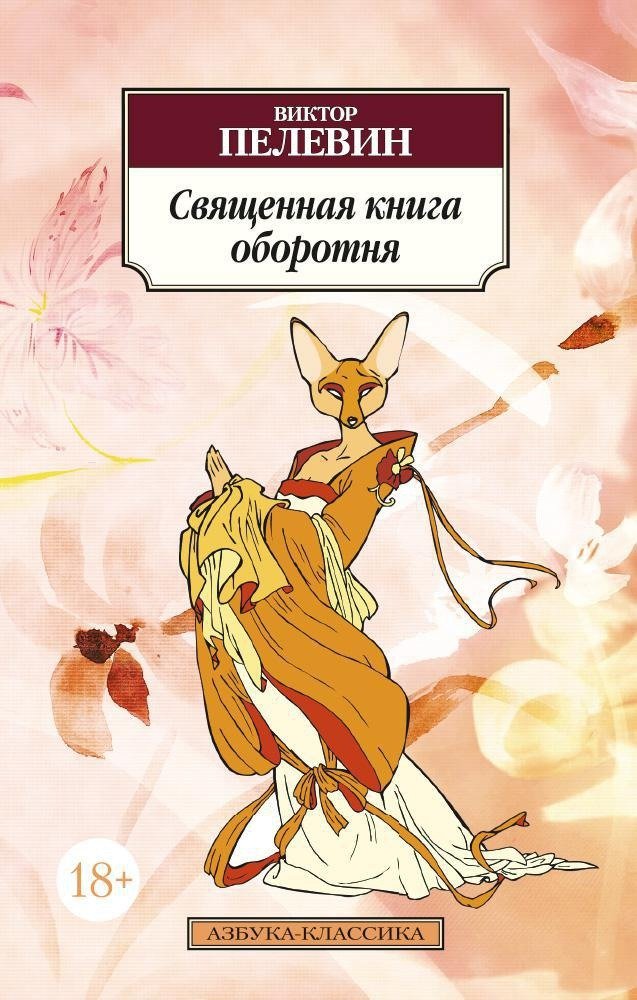
Конечно, Пелевин не один это делал и делает. Не это ли переподчинение постмодернистской эстетики консервативной повестке и называют туманным термином «метамодернизм», которым нынче клянутся все и каждый? Бывший замглавы администрации президента Владислав Сурков, подражая Пелевину, совершал нечто подобное в своих эпигонских романах, опубликованных под псевдонимом Натан Дубовицкий, а также в своей политической деятельности. На поле кино в этом направлении немало потрудился Алексей Балабанов. А в популярной культуре показательную эволюцию претерпел Сергей Шнуров.
Еще в «Genеration П» Пелевин заметил, что «анонимная диктатура» неолиберализма легко абсорбирует любое сопротивление себе, в результате чего языки сопротивления становятся языками власти.
Лучше всего Пелевин написал об этом в новелле «Зенитные кодексы Аль-Эфесби» (созвучие с ФСБ не случайно), вошедшей в сборник «Ананасная вода для прекрасной дамы» (2011).
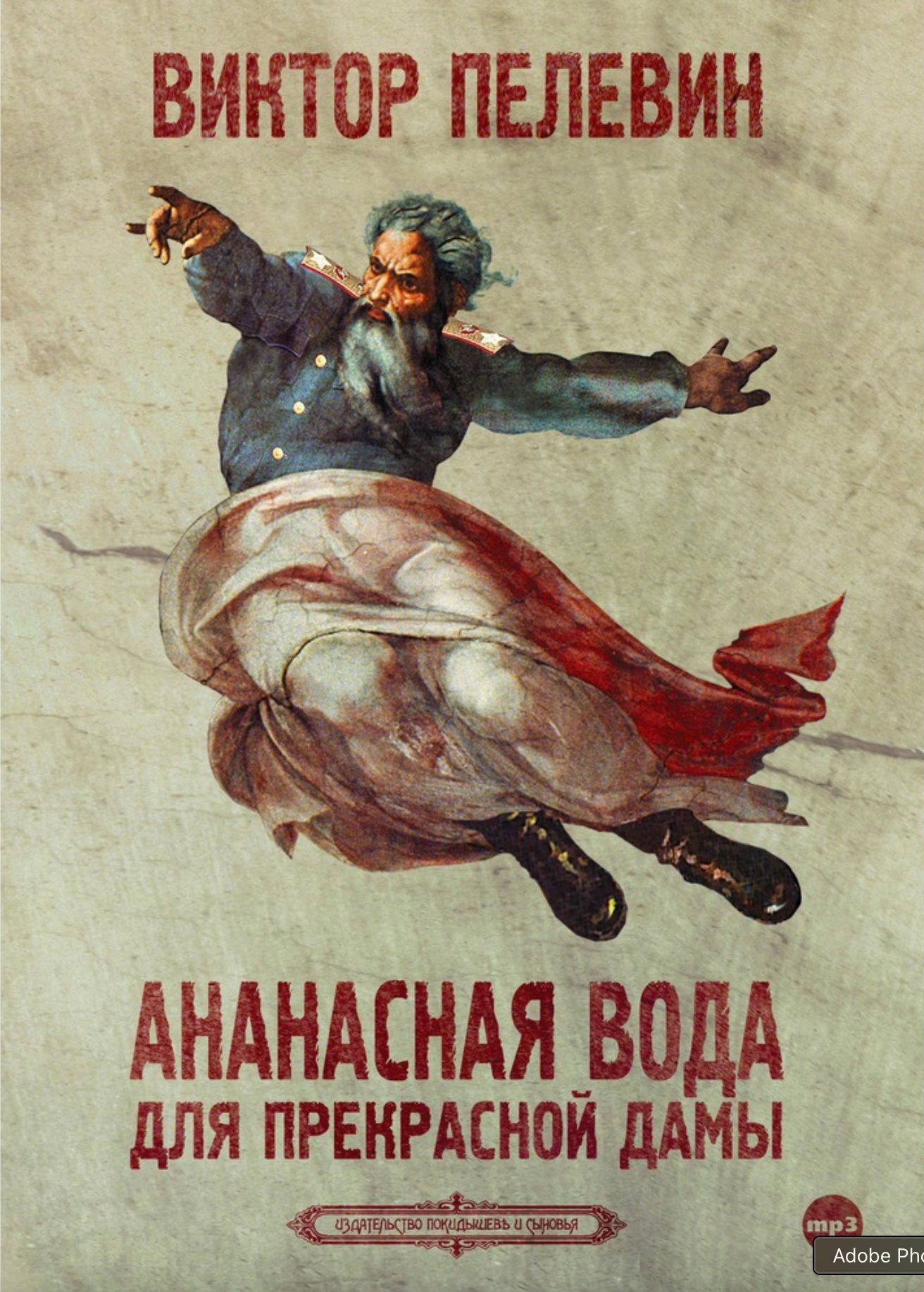
«Принято считать, что власть опирается на штыки. Но опорой российской бюрократии сегодня является не столько спецназ, сколько политический постмодерн. Что это такое и чем он отличается от постмодерна в искусстве?
Представьте, что вы затюканный и измученный российский обыватель. Вы задаетесь вопросом, кто приводит в движение зубчатые колеса, на которые день за днем наматываются ваши кишки, и начинаете искать правду — до самого верха, до кабинета, где сидит самый главный кровосос. И вот вы входите в этот кабинет, но вместо кровососа видите нереально четкого пацана, который берет гитару и поет вам песню про «прогнило и осто…» (осточертело. — Ред.) — такую, что у вас захватывает дыхание: сами вы даже сформулировать подобным образом не можете. А он поет вам еще одну, до того смелую, что вам становится страшно оставаться с ним в одной комнате.
И когда вы выходите из кабинета, идти вам ну совершенно некуда — и, главное, незачем. <…> Теперь вожди бюрократии излучают дух свободы и энергетику протеста в сто раз качественней, чем это сделает любой из нас и все мы вместе. Корень подмены сегодня находится так глубоко, что некоторые даже готовы принять радикальный ислам — в надежде, что уж туда-то переодетая бюрократия не приползет воровать и гадить».
(«Ананасная вода»)
Этим парадоксом, скорее всего, и объясняется нарастающая неприязнь Пелевина к ценностям, связанным с постмодернизмом. Постмодернизм для него стал языком власти, хотя он сам им владеет в совершенстве и, строго говоря, другого языка не знает. Но какой власти? После 2011 года Пелевин перенаправил свой сарказм на Запад, сосредоточившись на глобальном неолиберализме, и предпочитая не вглядываться в Россию настоящего, а сочинять Россию далекого и невероятного будущего. Тем больше яду достается западному феминизму и вообще борьбе за права меньшинств — именно здесь Пелевин видит худшую и самую радикальную форму порабощения. Развивая этот дискурс в своих сочинениях 2010–2020 годов, Пелевин во многом воспроизводит как риторику американских ультраправых («либеральный тоталитаризм»), так и российского мейнстрима. Хотя, в отличие от тех и других, он никогда не впадает в националистическую истерику.
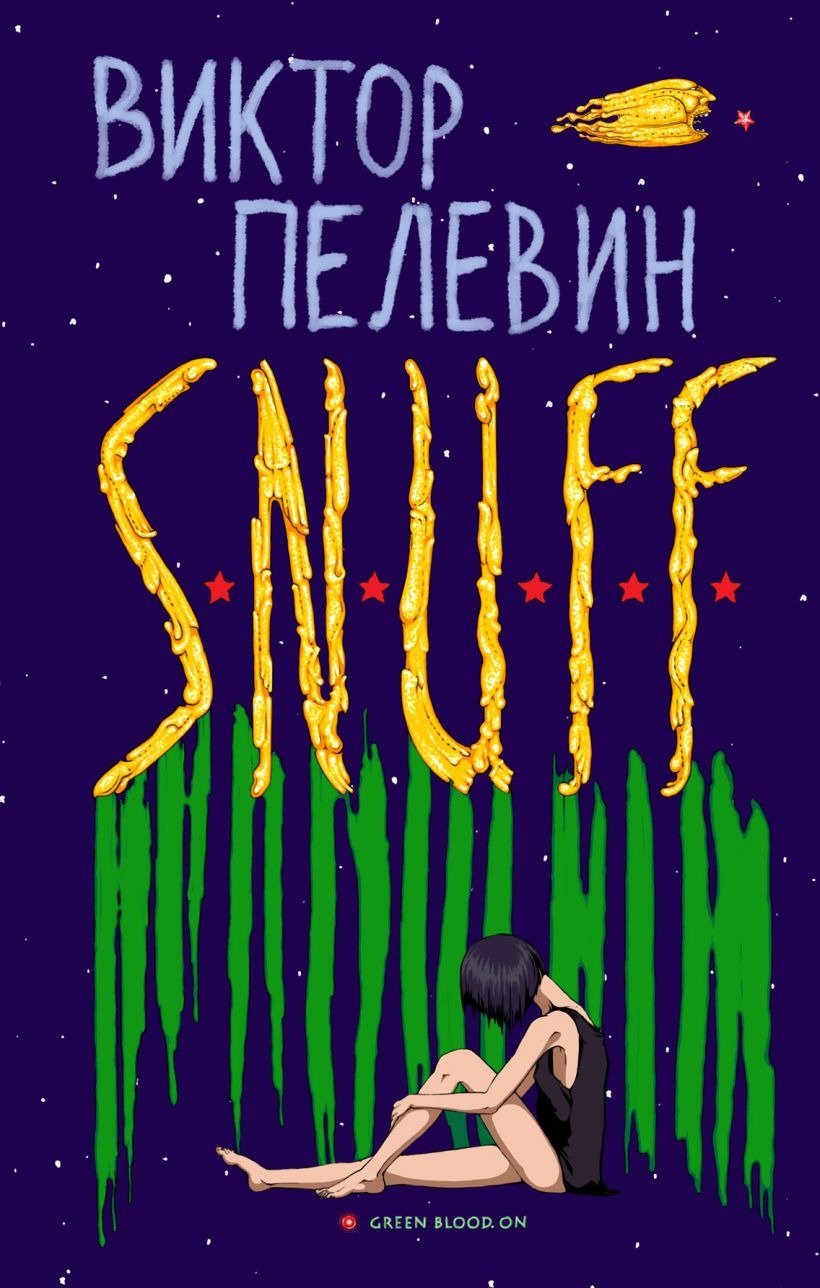
Начиная с романа S.N.U.F.F., Пелевин особенно много сил уделяет жанру, называемому «либерпанк». Как объясняет американский исследователь Э. Боренстaйн, ранние версии российского либерпанка можно найти в конце 1990-х годов у таких консервативных писателей, как Константин Крылов или Вячеслав Рыбаков, его развитием становится многотомный проект экс-депутата Госдумы К. Рыкова «Этногенез». Существо этого жанра Боренстaйн определяет так: «Либерпанк изображает дистопический мир (обычно близкое будущее), в котором идеалы либерализма восторжествовали, сформировав ригидное, репрессивное и бездушное общество, которому противостоят только немногие просвещенные личности» (см. сноску 2). К этому определению можно добавить, что либерпанк заимствует у киберпанка не только название, но и важные жанровые черты, в частности, власть в таком обществе принадлежит безличной компьютеризированной системе тотального надзора и контроля.
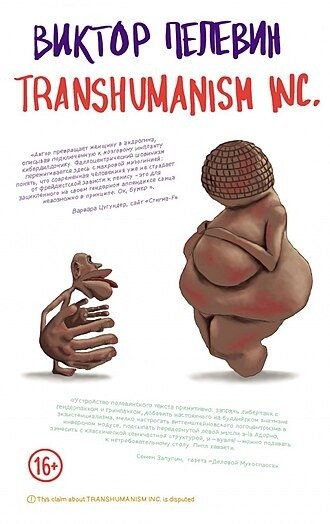
Образцовый либерпанк представляет собой цикл последних романов Пелевина — Transhumanism Inc. (2021), КGBT+ (2022), «Путешествие в Элевсин» (2023) и «Круть» (2024). Тематически к этому циклу примыкает и IPhuck 10. Действие в этих романах происходит в одной и то же «вселенной», основанной на вполне постмодернистском размывании границы между реальным и виртуальным мирами. Господствует надо всем западная суперкорпорация Transhumanism Inc., которая через импланты («кукухи») контролирует мозги населения, скармливая контент и рекламу, произведенные нейросетями, а также осуществляя цензуру и штрафуя за политически некорректные высказывания, мысли и психологические реакции. Эта же корпорация производит высокотехнологичных биороботов-«холопов», используемых для различных целей, от физического труда до секса и развлечений. Она же держит под контролем мировые элиты, которые давно перешли в состояние относительного бессмертия — мозги почивших властителей мира сего хранятся в специальных подземных банках и продолжают жить после смерти их владельцев, общаясь с другими такими же небожителями в виртуальной реальности.
Они также функционируют и в «реале» (так называемом нулевом таере) с помощью дронов или зеркальных секретарей. Путь в банку, стоящий немалых денег, является целью любой карьеры. Банковские олигархи и политики считают, что это они управляют миром, хотя и находятся под полным контролем Transhumanism Inc. Каждый день над этим миром восходит «Прекрасный Гольденштерн, глава корпорации, таинственный и загадочный хозяин баночного мира» («Путешествие в Элевсин»), якобы пребывающий на высшем, одиннадцатом таере бессмертия.
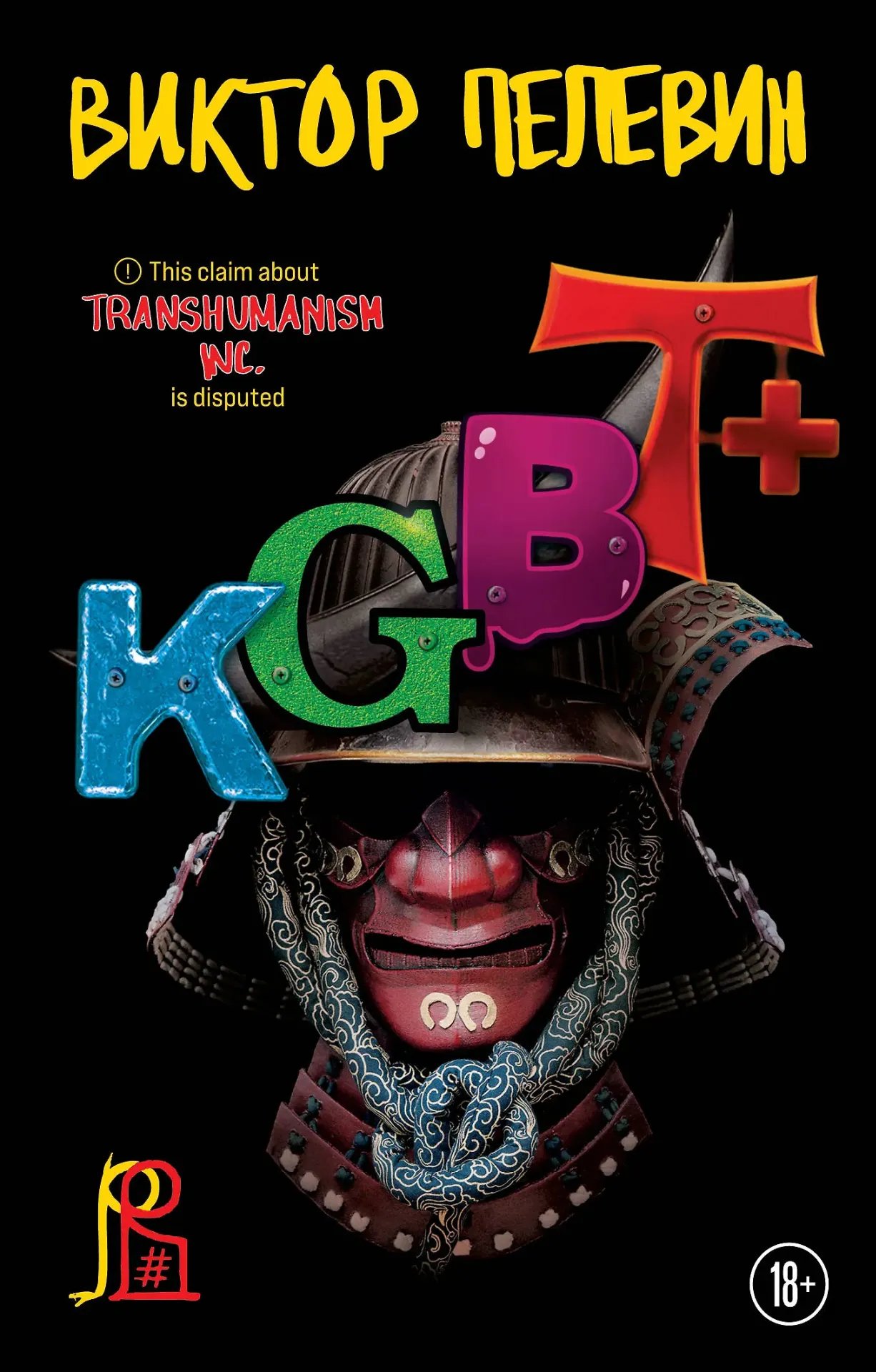
Россия, называющая себя «Добрым Государством» и управляемая «сердобол-большевиками», представляет собой периферию этой вселенной. Официально ею управляет «баночный генерал Судоплатонов», он же «Дядя Отечества». Это официальная мифология, на самом деле банка с мозгом Судоплатонова «случайно» разбилась «при уборке помещения», и вместо него теперь правит генерал Шкуро, глава баночной разведки и куратор спецслужб.
Но это власть церемониальная, реальная же принадлежит генералу Курпатову (совпадение с именем известного телепродюсера и специалиста по нейропрограммированию не случайно). В первом романе, Transhumanism Inc., еще появлялся верховный властитель — бро кукуратор, «первый баночный сердобол и вождь Добрсуда», правление которого длилось больше ста лет, но в следующих романах к этому персонажу Пелевин не возвращается (вероятно, слишком похож на известно кого).
Россия в этих романах пытается шантажировать Запад ядерным оружием, требуя платить за ветер, используемый ветряками, который якобы рождается исключительно в центре Сибири.
Для обоснования последнего утверждения придумана целая теория ветрогенеза, являющаяся официальной в России. Но противостояние России Западу поверхностно и проистекает только из жадности ее правителей. В остальном Россия так же, как весь мир, находится под контролем корпорации Transhumanism Inc. и ее филиала, называемого «Открытый мозг» — параллель с «Открытым обществом» Сороса очевидна. И так же, как все, порабощена проклятыми либеральными ценностями.
Главная из них — гендерный террор. Женщины официально признаны сильным полом, а «пенетрация» — формой гендерной репрессии. Поэтому ради восстановления исторической справедливости все женщины нового мира вооружены нейрострапонами (присоединенными к мозгу и вызывающими оргазм), и только с их помощью они отныне предпочитают заниматься сексом. Пелевин не жалеет красок на описания страданий мужчин, ложащихся под «кнуты» фем. Нетрудно догадаться, какими злобными и жестокими получаются у него вооруженные демагогией и нейрострапонами фемы. Биороботы, конечно, гораздо нежнее.

Виктор Пелевин. Фото: Кинопоиск
В последнем из романов, действие которого происходит (на удивление!) в России, эта оппозиция доведена до предела. Главной сценической площадкой «Крути» является зона, в которой зэки на велотренажерах (привет «Омону Ра»!) должны производить ветер, тем самым подтверждая теорию ветрогенеза. На самом деле они производят энергию для криптовалюты Курпатова, но это секрет. Основной же конфликт разворачивается между гомосексуальными «петухами», занявшими роль паханов на мужской зоне, и агрессивными «курами-заточницами» на женской зоне. «Куры» вооружены нейрострапонами-заточками, называемыми «цугундерами», с помощью которых они убивают мужчин-зэков. Разумеется, Пелевин и его повествователь, секретный агент трансгуманизма, не испытывают симпатии ни к тем, ни к другим. Главный «петух» становится носителем мирового зла (см. сноску 3). А легендарная заточница-террористка Варвара Цугундер, оказывается, придумала свой революционный миф, на котором выросла вся культура заточниц от обиды на жестокого любовника (того самого Шарабан-Мухлюева), который по пьяни забыл слово «безопасность» в их сексуальных играх.
Как видно даже из этого крайне сжатого пересказа,
будущее, по Пелевину, строится на фундаменте двух нарративов. Оба популярны и среди западных ультраправых, и в российском мейнстриме. Первый — «цифровой концлагерь». Второй — «террор меньшинств».
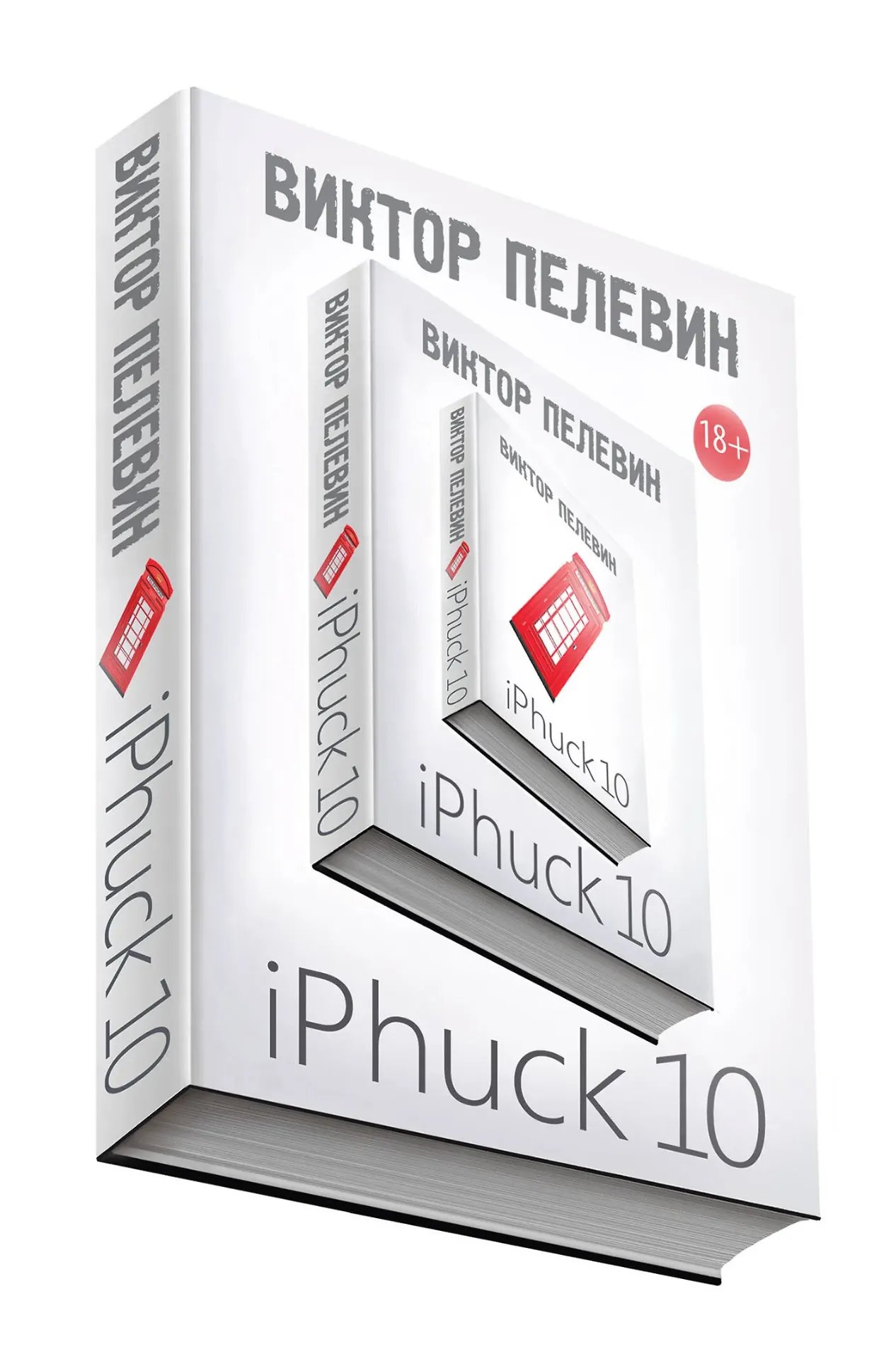
Надо признать, Пелевин очень изобретательно комбинирует эти нехитрые наборы тропов и риторических блоков, производя множество интересных, а подчас и остроумных идей и неологизмов. Чего стоит одна только «кукуха» — имплант, через который осуществляется снабжение индивидуума «контентом» — образовательными программами, развлечениями, рекламой… Через кукуху происходит коммуникация с далекими и близкими, она модулирует информацию, секс, наркотики и, само собой, служит каналом для надзора. В наличии (у спецслужб) и возможность «взять на славянку» — то есть включить slave regime, при котором человек превращается в биоробота, подчиняющегося командам оператора. Или же «вбойка» — новая форма искусства, подобная рэпу, только «вместо слов народ хавает прямую трансляцию с импланта на имплант» (KGBT+). Присутствие активных «баночных» персонажей позволяет Пелевину разворачивать действие в любых декорациях — хоть в Японии, хоть в Древнем Риме, хоть в мезозое, среди динозавров… Раньше пелевинские персонажи достигали вершин прозрения в тот момент, когда их накрывала мысль о том, что реальность — это всего лишь симуляция, создаваемая их мозгом. Теперь — это будни «баночников»: «Все без исключения, что я воспринимаю, — это симуляция» («Круть»).
Нельзя не оценить и жанровое разнообразие романов. Transhumanism Inc. — в сущности, собрание новелл, описывающих разные стороны придуманной вселенной. KGBT+ — автобиография модного «вбойщика», а на самом деле баночника третьего таера. Два последних романа построены как детективы с главным действующим лицом «баночником первого таера», агентом Transhumanism’a Маркусом Зоргенфреем, оперативником отдела внутренних расследований. В «Путешествии в Элевсин» замаскированный под странствующего вавилонского жреца Маркус должен вывести на чистую воду «баночника», играющего в «римской» симуляции роль императора Порфирия. Проблема в том, что Порфирий — не человек и даже не человеческий мозг, а алгоритм, спроектированный для того, чтобы писать детективные романы и одновременно расследовать преступления. Корпорация подозревает, что Порфирий хочет уничтожить человечество. В «Крути» сюжет разворачивается в основном в ветроколонии, за которой Маркус наблюдает через дроны и кукухи. Тут заговор пострашнее: в мир через «петуха» вторгается древнее космическое зло, заточенное еще во времена динозавров.
Однако чем сложнее сюжетные построения Пелевина, чем труднее они поддаются даже схематичному пересказу, тем яснее проступает принцип, объединяющий его новейшие романы. Начиная с «Чапаева и Пустоты» и «Generation П» он строил свои повествования как путешествие героя (или героини) по направлению к истине. Путешествие это шло по двум направлениям. По первой траектории (модель «Generation П») герой поднимается по лестнице власти только для того, чтобы убедиться: над тем, что казалось верховным уровнем, располагается другой, еще более верховный — но он-то как раз невидим, анонимен и неопределим. Следуя второй траектории (модель «Чапаева»), чем дальше продвигается герой, тем яснее ему или ей становится мнимость всякой власти, и окончательное осознание этой мнимости обеспечивает прорыв в область свободы (она же, вероятно, нирвана). Иногда эти траектории переплетались, как в «Священной книге оборотня», где путь власти отдан генералу ФСБ Серому (волку), а путь свободы — бессмертной лисе А Хули.
В романах из цикла Transhumanism Inc. свобода является предметом симуляции — то есть контролируется алгоритмом, и не только им. В этом, говорит Пелевин, существо «либеральных ценностей».
Остается одна власть. Но с властью тоже все понятно — она принадлежит глобальному капитализму (неолиберализму), который неизбежно колонизирует ваш мозг и будет выкачивать из него максимальную прибыль, давая взамен симуляцию свободы. Всякое движение закончено. «Здесь конец перспективы». Результатом такой мыслительной конструкции становится полное обесценивание сюжета. По большому счету, сюжетные выдумки Пелевина бессмысленны — они не могут сообщить ничего нового об этом мире, статус-кво обязательно восстановится, потому что его в принципе невозможно изменить даже в мелочах. Эти романы напоминают продолжения «Матрицы» — какой бы враг ни нападал на Нео, он, ясен пень, всех победит. Смотреть можно с любого места, изменяются детали схватки, но исход предопределен раз и навсегда.
Настоящий сюжет движим внутренними противоречиями, а в мире Transhumanism’a противоречий нет, есть только их иллюзия — а вернее, симуляция, — потому что весь этот мир монолитен, он весь состоит из одной власти. Поэтому в нем также все предопределено заранее. Эти романы построены как видеоигра, но даже в видеоигре есть возможность выбора, пускай и заданная алгоритмом, но ведущая к разным результатам. А в романах из цикла Transhumanism результат всегда один и тот же. Какой бы выбор герой ни совершил. Поэтому они и не совершают никаких выборов или же объясняют, как «вбойщик» из KGBT+, что разницы никакой. В одном своем шлягере он говорит «про Бога, как про разбившееся зеркало», а в другом «уговаривает покориться его воле». А все потому, что: «Если нет Бога, все нельзя». Третий его знаменитый шлягер посвящен оправданию конспирологии, что логично, поскольку конспирология — это нарративы без выбора. Очень похоже на романы Пелевина.
Повторяю, причина неудачи этих романов не в том, что иссяк талант Пелевина. Нет, не иссяк. Но мир, построенный им на основании либерпанка, на убежденности в том, что так называемый woke (идеология осуждения различных видов дискриминации. — Ред.) ведет обязательно к репрессии — этот мир оказался мертворожденным. Пелевин не нашел ничего, что могло бы расшатать, если не разломать, эту монолитность. В этом мире не обнаружилось реальных конфликтов, а значит, и жизни. Вся конструкция оказывается чистой воды абстракцией, раскрасить которую Пелевин смог, а оживить нет.
В конечном счете, оказалось, что сам Пелевин выступил в роли того самого «нереально четкого пацана, который берет гитару и поет вам песню про «прогнило и осто…» — такую, что у вас захватывает дыхание». Примечательно, что сатира Пелевина в то же время неизменно ведет к урокам конформизма, выдаваемым за высшую мудрость. Его саркастическая критика глобальной «анонимной диктатуры» незаметно слилась с властной риторикой. В сущности, такой исход неизбежно следует из устройства пелевинской вселенной. Как когда-то писал Константин Вагинов: «Таким образом Свистонов целиком перешел в свое произведение». И если в мире Пелевина нет ничего, кроме власти, то ему остается только быть ее «подсветкой».
Сначала в российском контексте. А теперь и в глобальном тоже. Во всяком случае, трампистам последние романы Пелевина понравятся. Я в этом не сомневаюсь.
Или зря Пелевин на меня клевещет?
Марк Липовецкий
об авторе
Марк Липовецкий
Автор — профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк), автор двенадцати монографий и двухсот статей в российской и зарубежной периодике. Соавтор шеститомного вузовского учебника «Русская литература ХХ века: 1917–1990-е годы». Один из четырех соавторов оксфордской истории русской литературы. Лауреат премии Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков за выдающийся вклад в науку. Живет в Нью-Йорке.
сноски
- Недавно пришла новость о том, что оперный режиссер Василий Бархатов начинает снимать сериал по роману Тranshumanism Inc. Возможно, этот сериал пробудит новый интерес к «позднему» Пелевину.
- Borenstein Eliot. Plots against Russia: Conspiracy and Fantasy after Socialism. Ithaca and London: Cornell University Press, 2019, p. 170–175.
- Любопытно, что этот мотив присутствует не только у Пелевина, но и у Сорокина. В его романе «Наследие» главное зло связано с отрядами бывших зэков-гомосексуалистов, подвергающих всех анальному насилию. Странная трансформация самых униженных и угнетенных в воплощение социальной агрессии!