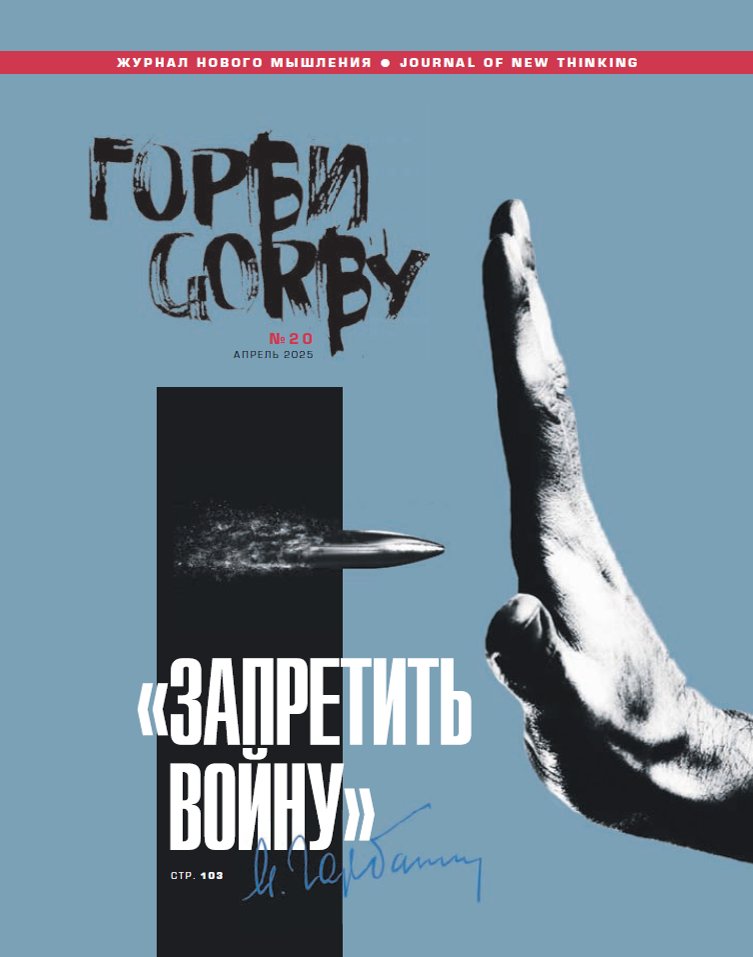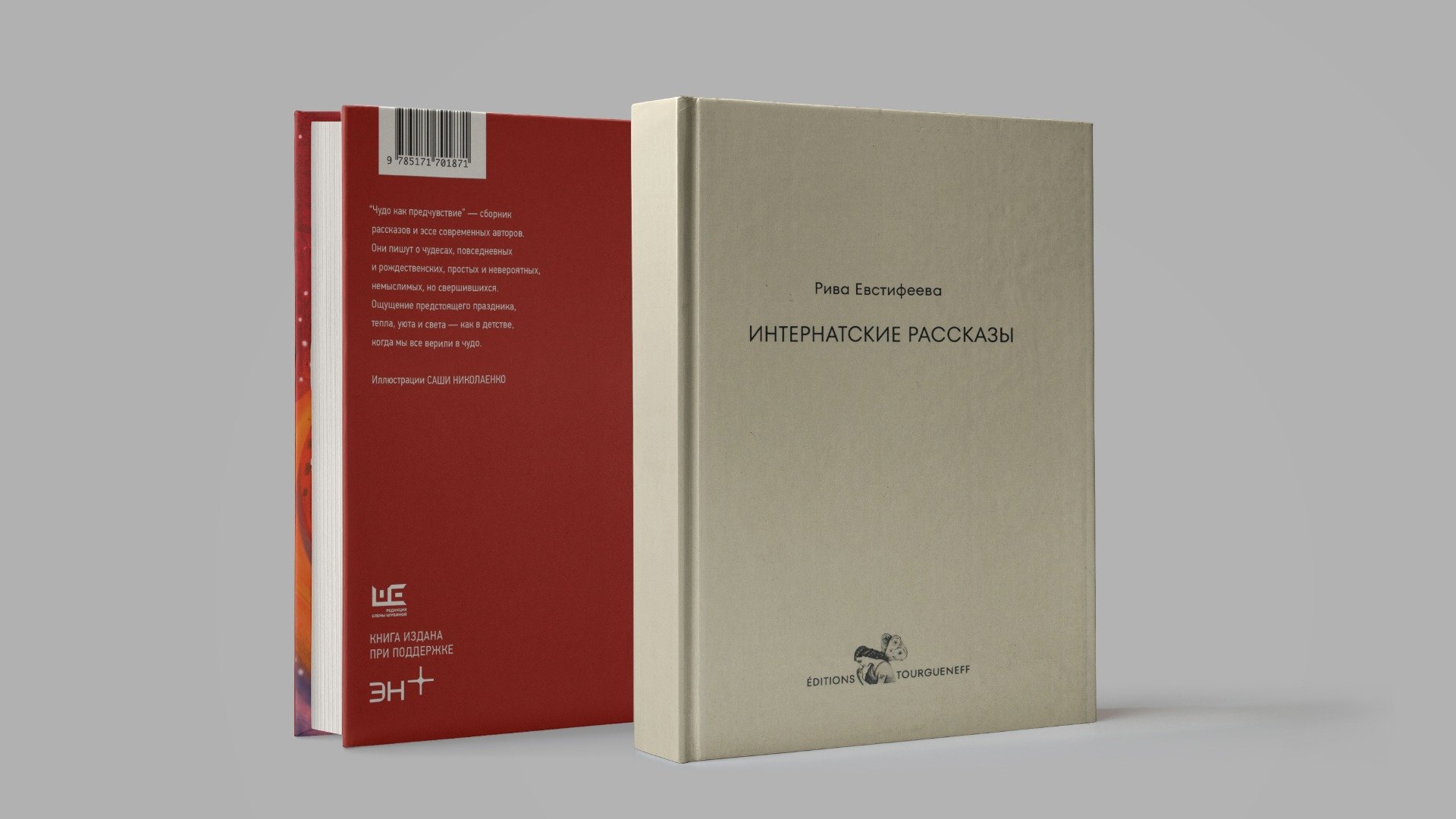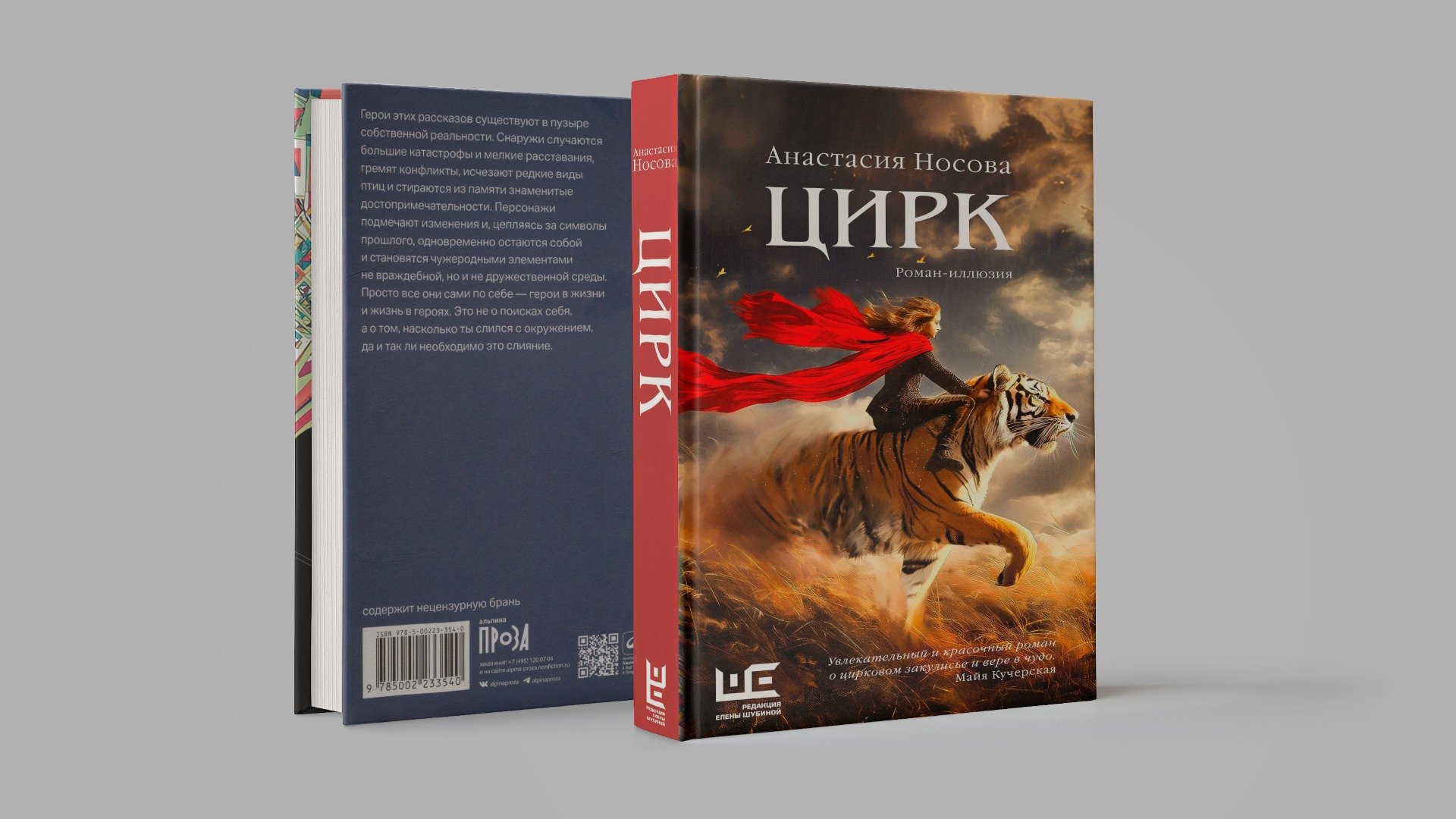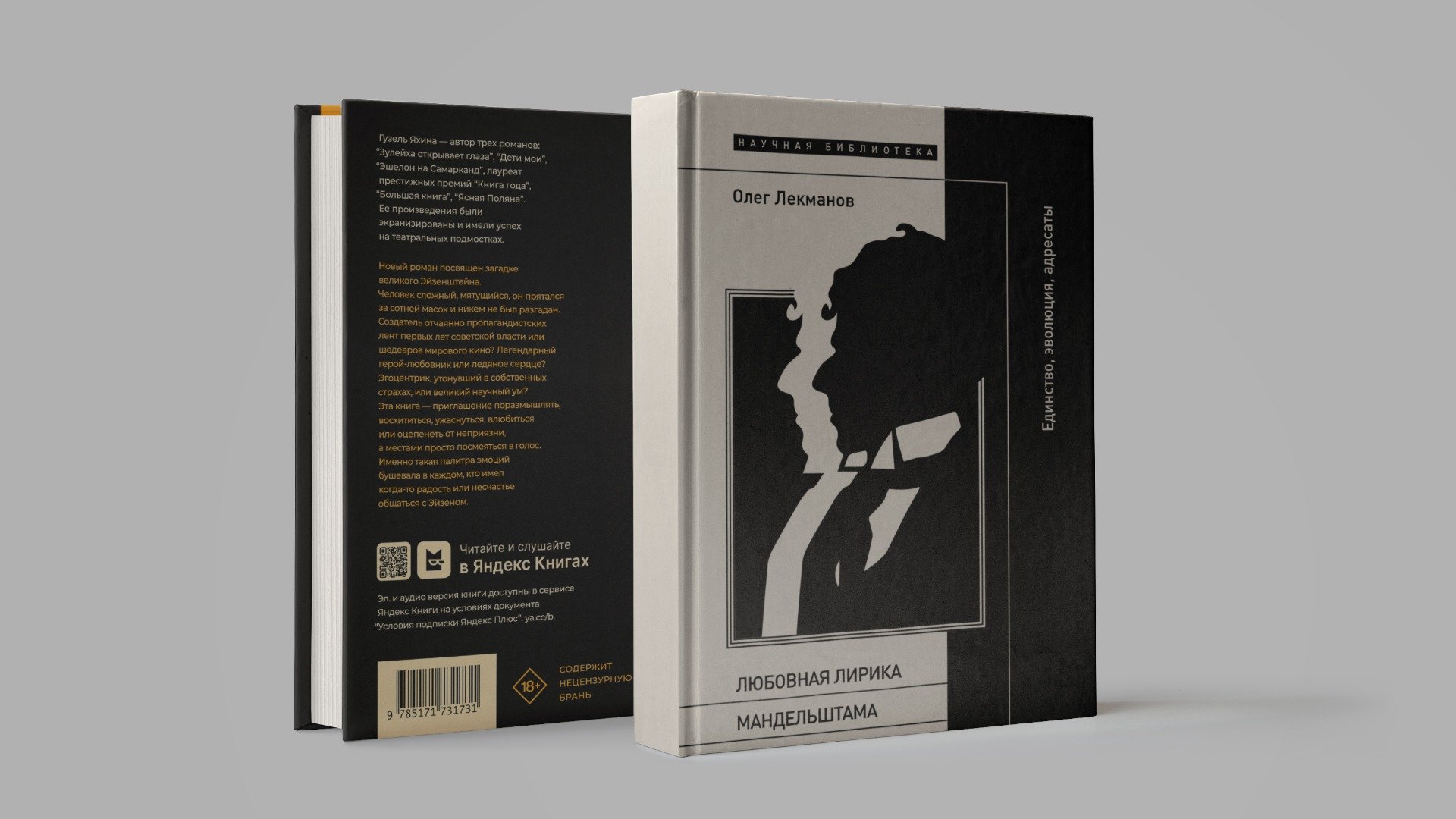
Известный писатель и литературный критик Майя Кучерская пишет о событийных книгах последнего времени, посвященных двум гениям. Это роман-буфф о трагической судьбе обласканного почестями Сергея Эйзенштейна и филологическое исследование о любовной лирике Осипа Мандельштама, открывающее тайны не только его творчества, но и личной жизни.
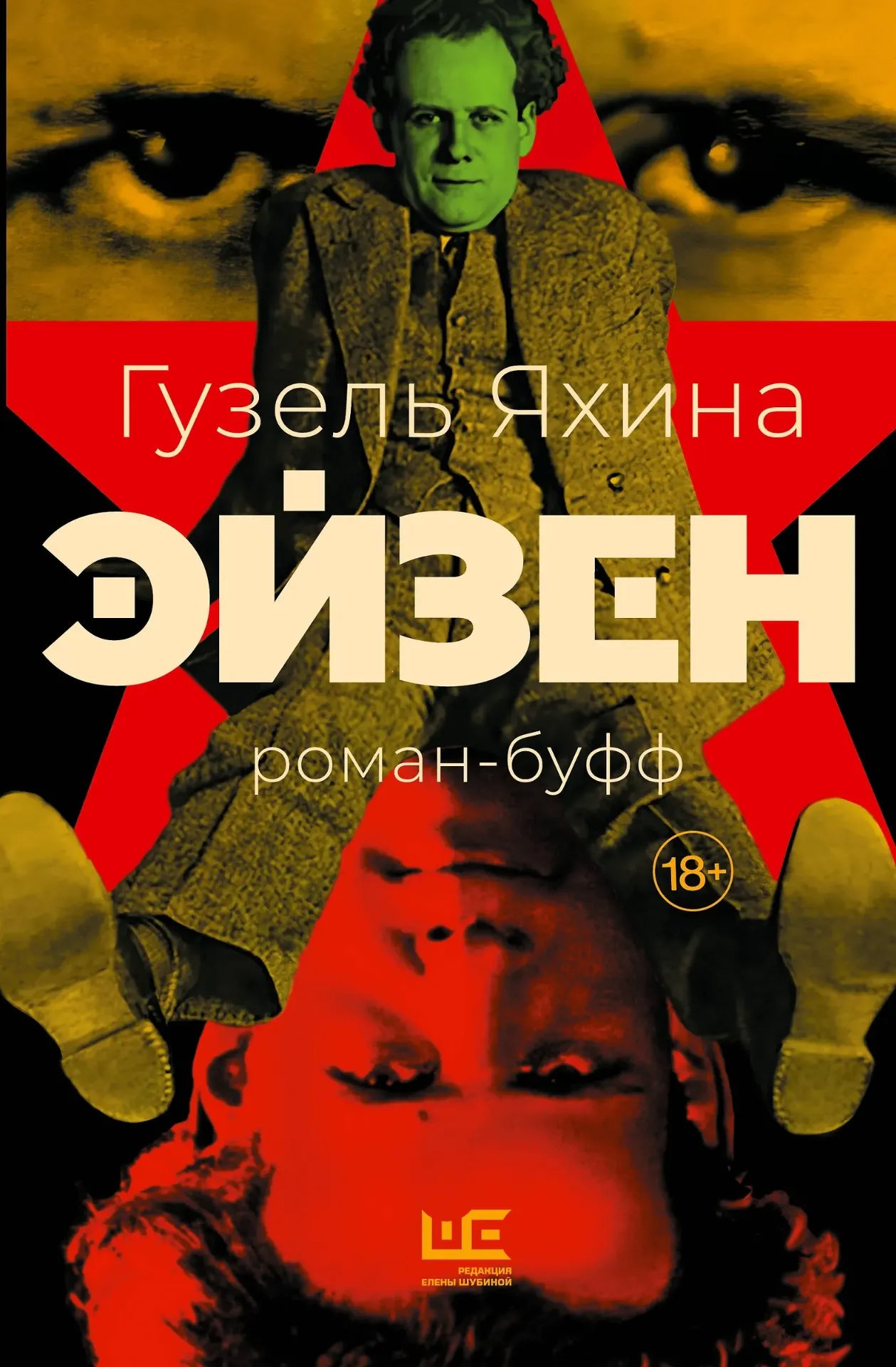
«Эйзен»
М.: АСТ, РЕШ, 2025
Гузель Яхина сочинила «роман-буфф», художественную биографию Сергея Эйзенштейна. Кажется, на сегодняшний день это лучший ее роман — самый красочный, самый умелый.
Звенящий роман-карусель, на которой и мчится ее герой. Карусель — действительно одна из ключевых метафор книги. В молодости гениальный, монструозный великий советский режиссер Эйзен жаждет раскрутить «карусель жизни до предела, чтобы на очередном обороте его выстрелило из круга прочь». И ему это даже удается, но ненадолго — не в ту эпоху и не в той стране он родился, чтобы улететь из заданной историей круговерти.
Портрет художника требует подходящей интонации и красок. И это первый роман Гузель Яхиной, в котором она так весело и так вдохновенно экспериментирует с языком повествования, каждому отрезку жизни героя подбирая свой нарративный образ — ритм, стиль, лексику.
История съемок дебютной «Стачки» и знаменитого «Броненосца «Потемкин» излагается стремительно, напористо, с цирковыми номерами — тут тебе и мартышка, лакающая вино, и ученая ворона на заводской трубе, и три толстяка, и дамы с камелиями в воде, и рыдающая над дочкой Афина. Рассказ о съемках Ледового побоища в «Александре Невском», проходивших в страшную жару, летом, когда ни снега, ни льда не было и в помине, дан в стилистике производственного романа, но пародийного. Путешествие Эйзенштейна в Мексику написано поэтично, с избыточностью влюбленного в это место, «Бежин луг» напевно, с библейскими и русскими фольклорными аллюзиями, московские снулые дни без съемок — с чеховской зевотой, героические съемки «Ивана Грозного» в 1943-м, в эвакуации, в Алма-Аты, а затем и запрет фильма, смыв пленок — с подобающей трагизму происходившего сдержанностью.
Прежде Гузель Яхину не раз упрекали в склонности к сценарным трюкам в художественной прозе, хотя непонятно, могло ли быть иначе: литературный почерк писательница вырабатывала в Московской школе кино, в мастерской по сценарному мастерству. Подчеркнутая изобразительность, разбивка на сцены, «арка героя» — ребра выученных конструкций действительно нередко проступали сквозь ее романы, хотя часто служили им только на пользу.
Однако впервые киношные приемы используются совершенно сознательно, работают на замысел, роман-то — о кинорежиссере! Начиная с самой первой сцены, в которой танцующего Эйзена настигает инфаркт, данной в цвете, движении и словно нарочно написанной для фильма, и исторических экскурсов, подобных нарезке хроник («В девятнадцатом полыхнуло на юге — Вёшенским восстанием по донской степи. Тогда же загорелось на Волге — чапанной войной по самарским холмам. В двадцатом перекинулось дальше — вилочной войной по Башкирии»), до обобщений, которые напоминают пояснительные титры в немых фильмах: «Революция — новорожденное божество. История стала культурой. Отныне все, что производил человек, служило Революции и одновременно было ею: и тракторы, и зерновые, и младенцы в родильных домах, и стихи в журналах. <…> История стала этикой».
«Монтаж аттракционов» вместо размеренного изложения событий, сюжетный конструктивизм, акцентирующий внимание читателя на самом ярком, отказ от излишнего психологизма в пользу четкой конструкции и функциональности каждой части — вот набор любимых приемов автора в романе «Эйзен». В результате история 50-летней жизни гениального режиссера изложена ритмично, разноцветно, захватывающе. Но увлекательность достигается отнюдь не только благодаря умелому монтажу, яркости картинки и внутреннему ритму — еще и залитым в эти рамки смыслом.
Гузель Яхина написала историю медленной гибели великого художника, биографию Фауста, менявшего маски, прячущегося от людей и себя, что парадоксальным образом не отменяло его бурного роста, мощными рывками, от фильма к фильму, от замысла к замыслу.
Подобно своему учителю Мейерхольду, охваченный революционной лихорадкой Эйзенштейн искал и находил все новые и новые формы описания взвихренного времени. Но в ответ время только неблагодарно калечило и подминало его под себя.
Это до конца прояснилось в минуту возможного, но так и не состоявшегося триумфа Эйзена. Его, красного режиссера, пригласили в Голливуд в студию Paramount снимать фильм. В итоге ни одно его предложение не было принято, он «оказался глубоко советским режиссером», потому что знал только две краски: «Любую тему или фабулу он помещал в советскую систему координат, где на одной оси — пороки в наивысшей мере: Мидасова жадность, звериная жестокость и тирания власть имущих. А на другой — достоинства (таких же превосходных степеней): бедняцкое братство и инстинкты свободы. Крест, на котором распинался любой сюжет и который явственно проступал сквозь сплетение мыслей и бурление драмы. Две краски, черная и белая, что только притворялись палитрой».
И все-таки ключ от этой советской клетки был ему вручен. После провала в Голливуде вместе со съемочной группой, Григорием Александровым, тем самым, будущим автором «Веселых ребят», и оператором Эдуардом Тиссе, он отправился снимать в Мексику.
Рассказ о мексиканском путешествии — по тонкости рисунка и любви к этой земле — пожалуй, лучшие страницы романа. Именно в Мексике Эйзенштейну открылась новая иерархия, точнее, возможность наконец отказаться от нее: «Под мексиканским же солнцем вертикаль исчезала: не было верха и низа — и все, что европеец разводил по полюсам, было замешано в единый бульон бытия. Возвышенное не вызывало трепета, а омерзительное — содрогания. Да и не могло здесь быть ни того, ни другого; а иначе говоря, и то и другое было всего-то частями друг друга».
Его новый фильм «Да здравствует Мексика!» должен был впитать эту истину: «Все, что было увидено и прознано — за недели в Мексике и за предыдущие годы, — хотелось влить в два экранных часа. Впервые — не столкнуть лбами, а заплести в мелодию. Не разъять на части, а синтезировать. <…> Чтобы и актеры, и свет, и движение, и даже самая мелкая мушка, что по случайности влетит в кадр, все бы пело о главном в симфонической сложности и гармонической простоте».
Но деньги, выделенные на съемки, кончились, давший их предприниматель разочаровался в русском режиссере — и обретенная истина так никогда и не воплотилась на пленке, а Эйзену пришлось возвращаться домой, на щите.
В конце концов он как будто проиграл по всем статьям: из последних сил старался совпасть с колеблющейся линией партии, но то и дело сбивался, оказывался сложнее, тоньше, гениальнее. Снял «Бежин луг», фильм о Павлике Морозове, но не увидел его на экранах, фильм был разгромлен и смыт с пленок. Напуганный Эйзенштейн публично каялся в «вопиющем, возмутительном, тлетворном индивидуализме», в том, что был «донкихотом независимости» и не шагал в ногу с партией и коллективом. Его самый популярный фильм «Александр Невский» после недолгого триумфа тоже был запрещен к показу из-за изменившейся политической погоды. Так и не была показана вторая часть «Ивана Грозного», тоже запрещена и уничтожена (копия сохранилась чудом).
Поражение Эйзен терпит и как человек. Строить отношения с людьми он так и не научился. Любившими его откровенно пользовался, ничего не отдавая взамен, мать, после развода оставившую его с отцом, подозревал в лицемерии, для смертельно больной мхатовской актрисы Елизаветы Телешевой, которую представлял своей гражданской женой, не нашел ни слова участия, ни минуты внимания, несмотря на ее многомесячные мольбы.
Все потому, считает Гузель Яхина, что предметом страсти режиссера всегда оставалось кино, съемки, так решая и вопрос о гомосексуализме, в котором режиссера часто обвиняли: женскую и мужскую красоту он ценил исключительно как материал для фильма. Бисексуальность его режиссерского взгляда замечательно показана через сцены съемок в Мексике.
Но по счастью, в палитре Гузель Яхиной много красок. Поэтому Эйзен и выиграл тоже — все снятые им шедевры (кроме «Бежина луга») сохранились и вошли в золотой фонд раннего русского синема. Душу дьяволу он так до конца и не продал. Сохранил ее все равно не растоптанный дар и верность Всеволоду Мейерхольду: уже после ареста учителя и убийства его жены Эйзенштейн, смертельно рискуя, согласился сохранить архив Мейера у себя.
В последней части романа, выполняющей роль эпилога, Гузель Яхина приводит письмо Мейерхольда Молотову о том, как страшно его пытали в Бутырской тюрьме, как били резиновым жгутом. Это широко известный документ, многократно перепечатывавшийся в работах о Мейерхольде. Прямого отношения к истории жизни Эйзенштейна он не имеет. Но Гузель Яхина считает необходимым напомнить о судьбе и этого художника снова, превращаясь в просветителя, проповедника истин добра и красоты, а возможно, просто следуя за своим героем, который говорил об «Иване Грозном»:
«Основной задачей, которую мы ставили перед собой, было не уйти за темой вглубь веков, а через тему почувствовать и дать почувствовать сегодняшний день».

Гузель Яхина. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
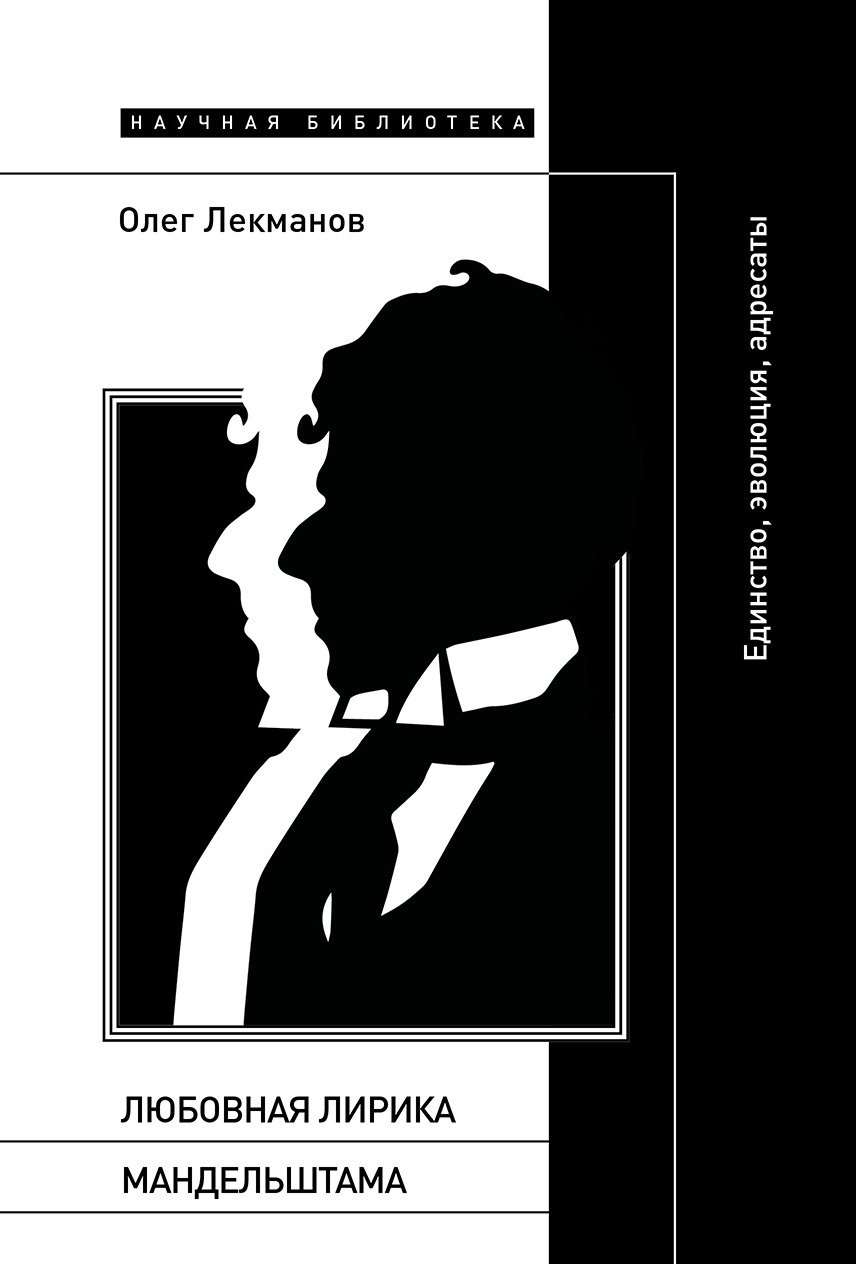
«Любовная лирика Мандельштама. Единство, эволюция, адресаты»
М.: Новое литературное обозрение, 2024
Это еще одна книга о гении, который погиб уже в самом буквальном смысле, в пересыльном лагере, и погребен был не на Новодевичьем кладбище, как Эйзенштейн, а в безвестной братской могиле, где-то в Приморском крае. Второе отличие заключается в том, что «Любовная лирика Мандельштама» никак не художественное, а филологическое исследование, хотя и вполне доступно написанное для неподготовленного читателя. Доктор наук и приглашенный профессор Принстонского университета Олег Лекманов, специалист по поэзии первой половины ХХ века, поставил перед собой очень сложную задачу.
Потому что исследователь любовной лирики Мандельштама рискует дважды.
- Во-первых, Мандельштам написал относительно мало любовных стихотворений, меньше 14% от всех своих поэтических текстов. В отличие, например, от Николая Гумилева, посвятившего любовной теме, как сообщает Олег Лекманов, 44,5% стихотворений. Наверняка и в отличие от Ахматовой, Цветаевой, Блока, Пастернака.
- Во-вторых, остаться в рамках чистого анализа, обсуждая любовную лирику любого поэта, тем более Мандельштама, всегда сочинявшего многослойные, построенные на аллюзиях тексты, немыслимо. Понимание, кто был адресатом и в каких обстоятельствах стихотворение сочинялось, часто таит шифр к нему. Вот только нужен ли не специалисту этот шифр?
Олег Лекманов цитирует замечательное высказывание Марины Цветаевой:
«Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто — когда — где — с кем — при каких обстоятельствах, — и т.д., как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта. Да разве он не знает, что поэт в стихах — живой, по существу — далекий?»
Исследователь внятно откликается на это соображение, которое с Цветаевой разделяют наверняка многие:
«Мы в этой книге собирали биографические «отсевки» вовсе не для того, чтобы «приблизить к нам живого поэта», а для того, чтобы прояснить темные места в мандельштамовских стихотворениях, а если формулировать амбициознее — для того, чтобы взглянуть на поэзию Мандельштама с новой, неожиданной стороны».
Значит, перемещение в биографическое поле, погружение в нюансы личной жизни художника — неизбежно.
Добавлю, что не специалист, не профессиональный читатель Мандельштама, наверное, действительно имеет право их не знать, ученый — не может себе этого позволить.
И Олег Лекманов щедро делится своими открытиями, не срывая, но бережно снимая маски с адресатов многих любовных стихотворений поэта.
Прекрасные дамы, связанные с конкретными текстами, названы по именам, с приложениями истории их отношений с Мандельштамом — начиная с литератора Ларисы Рейснер и художницы Анны Михайловны Зельмановой-Чудовской, двойная фамилия которой считывается автором как ключ к стихотворению «Приглашение на луну». Дальше поэтическая изощренность Мандельштама в эротической поэзии усиливалась и углублялась, Олег Лекманов показывает это на материале стихотворений, посвященных всем возлюбленным поэта — Цветаевой, Ахматовой, Ольге Гильдебрандт-Арбениной, Ольге Ваксель, Марии Петровых, Наталье Штемпель, Еликониде Поповой. И конечно, Надежде Яковлевне Мандельштам, верному другу, секретарю и жене поэта. Вот кому горько было бы читать эту книгу.
Иные стихи, которые Надежда Яковлевна считала посвященными ей, обращались, как демонстрирует Олег Лекманов, к другим, для маскировки Мандельштам мог просто изменить цвет глаз героине — «Твой зрачок в небесной корке…», например, обращался к Наталье Штемпель, не жене, хотя Надежда Яковлевна была убеждена в обратном. О каких-то его изменах Надежда Мандельштам так и не узнала. Про какие-то отношения была уверена, что они давно прекратились, между тем они длились.
Особенно печальны заключительные страницы книги. Надежда Яковлевна не могла принять мандельштамовских стихотворений о Сталине, и, судя по всему, именно это стало причиной их глубокого внутреннего разлада. Филолог Наталья Штемпель, в отличие от Надежды Мандельштам, стихотворения Мандельштама, воспевавшие Сталина, принимала и, возможно, даже разделяла его восторг. И получила от Мандельштама предложение бежать. «Мы с вами будем жить, где вы захотите, хотите в Москве, хотите — на Юге…» Случилось это на исходе воронежской ссылки поэта, после того, как Надежда Яковлевна прошла с ним бесчисленные испытания, во всем его поддерживая. Кроме разве что любви к вождю. Следующей избранницей Мандельштама стала «сталинистка умильного типа» Еликонида Попова, считавшая «Стихи о Сталине» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…») лучшими у Мандельштама. Узнав много лет спустя, что у мужа были романтические стихотворения, посвященные Поповой («И материнская забота / Ее понятна мне — о том, / Чтоб ладилась моя работа / И крепла — наборьбу с врагом»), Надежда Яковлевна разозлилась на него, как на живого. Впрочем, из ревности не столько к Поповой, сколько к Сталину, который в том же стихотворении воспевался не менее страстно: «И мы его обороним: / Непобедимого, прямого, / С могучим смехом в грозный час, / Находкой выхода прямого / Ошеломляющего нас».
Надежда Яковлевна, всю жизнь посвятившая хранению архива мужа и публикации его наследия, конечно, увидела в этом предательство. Но в 1933 году, написав самоубийственную эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны» про «кремлевского горца», в июле 1937 года Мандельштам, похоже, действительно уже любил Большого Брата.
Как это было возможно? Как одна рука могла выводить проклятия и славословия вождю? Как любовь к жене соединилась с постоянными изменами ей? И действительно ли гениальность не обеспечивает ни этической, ни мировоззренческой безукоризненности? Чтобы отвечать на эти вопросы, и пишутся подобные книги. Глядя на поэта сквозь призму его любовной лирики, Олег Лекманов деликатно и компетентно разрушает все сопутствующие ей мифы и в конце концов открывает нам непридуманного, настоящего, несовершенного, но все еще гениального Осипа Мандельштама.

Олег Лекманов. Фото: Svklimkin