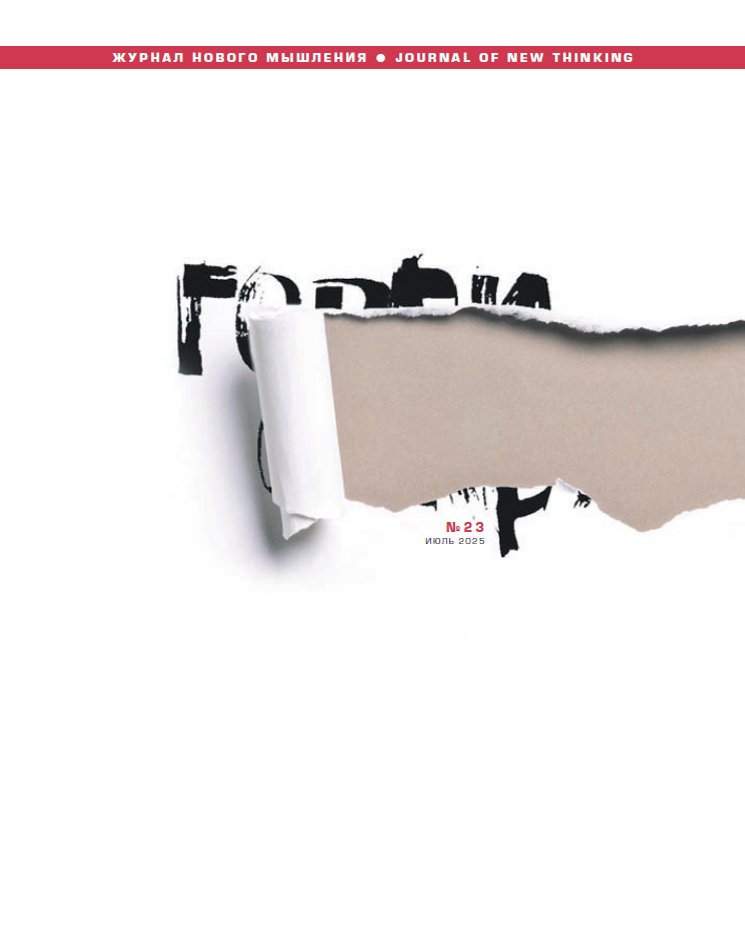«Сказка» — новый роман Владимира Сорокина, выходит в издательстве Freedom Letters. У этого безжалостного эпоса о русском сознании не много шансов добраться до здешних читателей, поэтому с любезного разрешения автора и издателя публикуем главу (с сокращениями), в которой главный герой Ваня проходит свое первое испытание самопожертвованием в походе за счастьем, куда его отправила русская троица: Лев, Федор, Антон. Как пишет в своей рецензии в «Новой газете» Александр Генис (в РФ признан «иноагентом»), «тут-то и начинается то, чего ждет читатель, а именно то, что Сорокин умеет делать лучше всех — говорить, как чревовещатель, чужим голосом. Он использует этот прием, чтобы не просто спародировать русскую классику, но вскрыть ее подноготную, обнажить ее стилевые опоры и высветить моральный урок. Все это, не переставая издеваться над тем, что любит больше всего. Прежде всего — над Толстым. Написанный под него эпизод напоминает народную драму о любви, грехе и наказании».
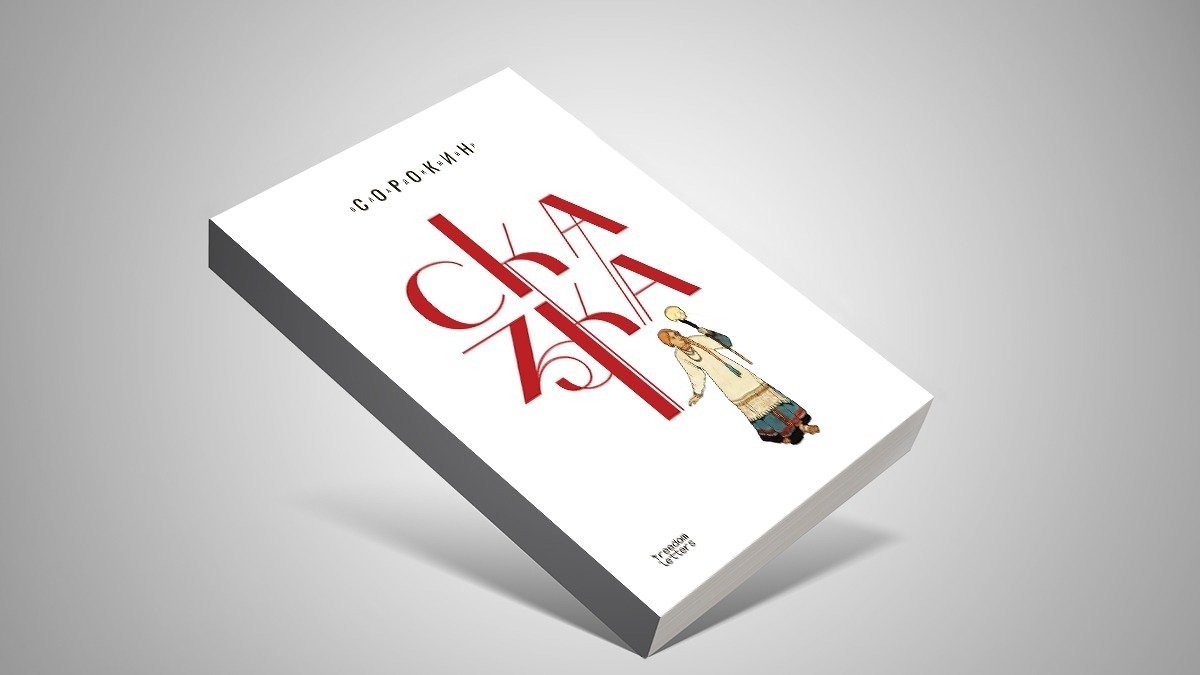
…Худая, босоногая, всегда бедно и неряшливо одетая, с длинными, изуродованными крестьянской работой руками девка Матрена, с раннего утра и до поздней ночи прислуживающая кабатчику Варину по дому и на скотном дворе, но в этот душный и жаркий послеобеденный час, когда у Вариных все повально спали, сидящая на жердине скотного, болтающая своими пыльными, мосластыми босыми ногами и лузгающая семечки, первой увидала двух нищих, направляющихся в их село Манино со стороны Староникольского по широкому, пыльному и ухабистому большаку.
Нищих было двое — подросток, везущий тележку на колесах, и лежащий в этой тележке мужчина без рук и ног. Подросток, одетый по-городскому, но бедно, в коленкоровом картузе, был запряжен в подобие хомута и тащил его своим юным гибким телом; от хомута к тележке шли две сыромятные постромки и тянули ее по пыльным ухабам. <…>
Когда нищие со своей тележкой поравнялись с Матреной, она, до этого наблюдавшая их с привычным деревенским равнодушием, разглядела лежащего в тележке калеку, выплюнула семечку и замерла. За свою пятнадцатилетнюю жизнь она успела уже повидать разных калек-нищих — в своем селе и на ярмарке в Староникольском. Но человека без четырех конечностей увидала впервые.
«Надо же…» — удивилась она и, спрыгнув с жердины, пошла поодаль этих двоих.
Тянущий тележку парень заметил ее краем глаза, но, не взглянув на нее, продолжал свое движение. По нему было видно, что он уже изрядно тащит эту тележку, вероятно, с самого Староникольского, и порядочно устал. Матрена пропустила их слегка вперед и пошла за ними по большаку, погружая ступни в мягкую, нагретую солнцем пыль.
«За что ж Господь так его наказал? — думала она, заглядывая в тележку. — Может, за непочтение к родителям?» <…>
Парень, тянущий тележку с обреченностью осла, вдруг остановился и обернулся к Матрене своим сильно загорелым, скуластым лицом. Она тоже остановилась.
— Это Манино? — спросил парень хрипло.
— Манино, а как.
Он облизал потрескавшиеся губы, снял картуз, отер вспотевший лоб.
— Где б нам воды напиться?
«Ступай до колодца», — хотела было сказать Матрена и привычно махнуть рукой вперед, но передумала.
— Пошлитя со мной, я вам вынесу.
Ей стало жалко этих двух, уставшего и калеку. Парень снова потянул постромки. Тот, что лежал в тележке, был лысоватым сорокалетним мужиком калужской деревни Хлопонино Фролом Лоскутовым.
До остановки и разговора парня с Матреной он лежал на спине, прикрыв лицо картузом, а сейчас сдвинул картуз с такого же, как у парня, сильно загорелого, словно печеного лица и равнодушно уставился на Матрену маленькими голубенькими глазками. Безруким и безногим родила его мать от сильно пьющего и рано умершего отца, которого Фрол видел только младенцем. Мать ходила за Фролушкой как могла, брала на покос и на полевые работы, где и суждено ей было погибнуть от удара ретивого жеребца. Тетка взяла калеку в свою большую семью, но муж ее, жестокий и жадный, однажды продал шестилетнего Фрола проходящим через деревню побирушкам.
С тех пор Фрола возили. Бедные, обнищавшие люди использовали его, чтобы у других людей замерли сердца при виде такого калеки и они подали бы еды или медяков. <…>
За тридцать четыре года своей кочевой жизни Лоскутов трижды тонул, дважды был вынесен из горящих избы и бани, многажды бывал бит, покусан собаками, голоден и так же многажды — пьян.
Много раз его раздевали и укладывали на пьяных женщин, с которыми он ради их прихоти совершал то, что совершают здоровые мужчины. Много раз его обсмеивали, унижали, обзывали бранными словами, обливали помоями, мочой, а пару раз и кипятком. Ни разу не прожил он на одном месте больше недели.
С Иваном судьба свела Фрола на второй день Пасхи под Медынью, где в одном селе очередных хозяев его тела сильно побили за кражу, а его самого швырнули в коляску
и со злобным хохотом пустили под гору; он вылетел из коляски и сильно ударился грудью оземь. Там, в крапиве, стонущего и обмаравшегося, нашел его Иван. Ничего не говоря, он погрузил Фрола в коляску, отвез на речку, раздел, обмыл, снова одел и повез по дорогам. Уже опытный, битый жизнью своей Лоскутов не спросил Ивана, почему
и за что тот так добр к нему. А Иван и сам ничего не говорил, не рассказывал о себе. «Доброго парня Господь
послал, — думал калека. — А что и зачем — не твово ума дела, Фрол».
Так они стали ездить вдвоем. Но не только вдвоем. Сзади коляски был приторочен немудреный скарб побирушек — свернутая и перетянутая веревкой зимняя одежда, дощечка с колесиками, котелок да объемистая фляжка, сейчас совсем пустая. Коляска поравнялась с кабаком.
— Здеся подождитя, — сказала Матрена и на своих мосластых худых ногах угловато взбежала на крыльцо, вошла и затем быстро вышла с ковшом воды.
Неся его, чтобы не расплескать, она смешно раскорячивала ступни и сгорбилась, как старуха.
— Пейтя! — она протянула Ивану ковш. Приняв его
обеими руками, тот наклонился к калеке, а Фрол, ловко извернувшись своим телом, как тюлень, приподнялся в тележке и жадно припал к ковшу маленькими, как и его глаза, губами. Калека пил жадно, раздувая узкие ноздри и дрожа животом, как лошадь. В этот момент в котелке кто-то завозился и из него высунулась сорока.
— Здрррррасьте! — каркнула сорока.
— Ох! — воскликнула Матрена, раскрыла рот и засмеялась, обнажив неровные большие зубы. Сорока вылезла из котелка, перепрыгнула в коляску, прошла по телу пьющего и клюнула низ ковша. Матрена заметила, что у сороки одно крыло. Калека оторвался от ковша на тяжком выдохе, словно напахался, и довольно захлопал своими глазками, заулыбался Матрене:
— Благодарствуй, дочка.
Парень чуть опустил ковш, сорока сунула в него свой черный клюв и стала пить, запрокидывая голову после каждого глотка.
— Эт что ж… сорока у вас? — спросила Матрена. — Пошто?
— Сорока, — ответил калека. — Подружка наша.
Его голос был довольно сильный, как бы всегда извиняющийся, но при этом спокойный, уверенный в чем-то основательном и неколебимом.
— Сорока! — скалясь в улыбке, качала головой Матрена. — И говорит?
— Говорит.
— И с вами, поди, из одной чашки ест?
— А как же! — продолжил калека. — Подружка, чай. Помогает нам копеечки добывать.
— Это как?
— А приходи на наше представленьице, увидишь как. Она тебе все расскажет.
Парень подождал, пока сорока напьется, затем допил воду, вытряхнул капли из ковша на руку, снял картуз и увлажнил свой затылок.
— Это кого ты тут поишь, лярва? — раздалось недовольно из окошка кабака.
Все, кроме сороки, повернулись на голос. В распахнутом окошке, раздвигая марлю от мух, просунулось широкое бородатое и всегда красное лицо владельца кабака Гаврилы Варина.
— Тута вон они… — показала длинной рукой на тележку Матрена. — Калека, Гаврил Макеич.
— Какой ышо калека? — прищурил и без того заплывшие глаза кабатчик.
— Да вот… он это… как бы совсем без всего.
— Чиво? Тебе что сказано было?
— Так я все исделала, Гаврил Макеич, а вы почивали, так и приказу больше никаких не исделали, а они вон без рук-ног, а пить Христа ради попросилися! — громко, как бы для всех, не только для одного кабатчика, заговорила Матрена.
Варин глянул недовольно, исчез за марлей, а потом возник на крыльце. Это был грузный, пузатый, жадный, злобный и развратный человек, укрепившийся и поднявшийся за счет тяги крестьян к водке и делающий все, чтобы тяга эта, как ядовитое растение, росла и крепла с каждым днем.

Иллюстрация: «Горби»
<…>
— И чего вам тут надобно? — лениво спросил Варин, доставая из кармана жилетки кожаную папиросницу и закуривая папиросу.
— Мы, мил человек, просим Христа ради, а за енто представленьице показываем.
— Какое представленьице?
— А веселое! — улыбался Фрол. — Развеселим, споем и спляшем.
— Особливо ты! — ухнул животом кабатчик, пуская дым.
— Я те точно не спляшу, Господь ног не придал, — с той же улыбкой отвечал Фрол спокойно. — А вот она — спляшет, споет да и все расскажет так, что удивишься порядочно! Сорока, тебя как звать-величать?
— Я сорррррока-белобока! — проговорила сорока скрипучим голоском.
— А куды мы с тобой едем?
— Едем мы на кудыкину горрррру! — раздался скрипучий ответ.
— Ах ты, зараза! — зло усмехнулся кабатчик. — Говорит?
— Говорит. И поет. А мы с Ваняткой подпоем. Народу ндравится.
И подмигнул кабатчику. Варин хотел было послать этих нищих с их сорокой куда подальше, но, всегда думая о выгоде, вспомнил, что балалаечник Савоська от него сбежал к себе в Портохино, а местный Ванька как играл на великом инструменте прескверно, так и продолжает, сколько ему водки ни наливай. Народ в кабаке веселить больше некому, а сами крестьяне веселятся только на свадьбах и праздниках. <…>
«А пущай енти у меня представленьице устроят. Не понравятся — вышибу к чертям. А получится — заработаю».
— Представленьице, говоришь? — пробормотал он. — Валяй. Делай у меня в заведении представленьице сегодня.
— Исделаем как надобно! — быстро поклонился головой калека, не расплескивая свое спокойствие. — Благодарствуйте!
— Благодаррррррствуйте! — проскрипела сорока. Варин велел Матрене отвести нищих в старый сенник и дать им поесть.
Вечером, на закате в кабаке собрались человек тридцать манинских мужиков. Варин, после того как определил нищих у себя, послал полового пойти по избам и приглашать мужиков на «представленьице». В длинной кабацкой избе все они расселись по лавкам за столами, привычно заказали себе водки, а кто и закуску — сало, ветчину и вяленую рыбу, и задымили самокрутками. Посередине столы раздвинули, освободив место. Туда Иван и прикатил на дощечке с тремя колесиками тело Фрола. Появление человеческого обрубка, застегнутого в засаленную холстину, снизу подшитую обшарпанной кожей, вызвало у собравшихся крестьян брезгливое любопытство.
— Ишь, невалид, — произнес один из них.
— Где ж его так? — обмолвился другой и присвистнул.
— Макеич, енто он, штоль, представлять будет? — громко воскликнул третий, и собравшиеся засмеялись.
А калека вдруг напружинился всем своим телом и не упал, а именно спрыгнул с дощечки на пол и, лежа на животе, задвигался по исшарканному полу, словно гусеница, поднял голову и запел:
Родила мине маманя без рук да без ног,
Знать, увечным да калечным угораздил мине Бог,
А папаня мой от водки помре,
Стало бедно да няловко на нашем дворе,
Все маманя на себе выносила,
Да мине на покос за спиной носила,
Раз пахали они с дядькою делянку весною,
Положила мине мама на полянку под сосною,
А на жеребца строка тогда напала,
И жестоко его в шею покусала,
И лягнул он маманю прямо в лоб да и вышиб дух,
И остался сиротой я, как в канаве лопух…
Фрол перестал петь и заползал по полу быстрее. Он ползал на спине, на боку, на животе, при этом держа прямо свою плешивую голову и улыбаясь. Это был танец калеки. Мужики, кабатчик, его жена и двое половых уставились на Фрола, как на диковинное животное. <…>
Со зрителей сошла первая оторопь, некоторые стали негромко пересмеиваться. Выпитая водка помогла им привыкнуть к такому чудовищному и демонстративному убожеству, которое не каждый день увидишь. Но в своей крестьянской жизни они повидали разное убожество и сами жили в нем с детства.
— Но не все ж нам так вдвоем елозить-куковать! — воскликнул Фрол, вдруг замерев. — Бог послал нам третьего, штоб не заскучать!
Стоящий у печки Ваня вытащил из-за пазухи сороку, посадил на ладонь и показал собравшимся. Сорока сидела молча, присев на лапках и косясь по сторонам черными бусинами глаз. <…>
— А ну-ка скажи, сорока, как звать тебя? — громко проговорил высоким, ломающимся голосом Ваня.
— Я сорррррока-белобока! Здрррасьте! — проскрипела сорока, слегка открывая клюв.
Народ в кабаке одобрительно засмеялся, зацокал языками, замотал головами: «Ишь ты!»
— А куды мы с тобой идем?
— На кудыкину горрррру! Здрррасьте!
Сидящие засмеялись громче. Сорока затрещала.
— А чего ты, сорока, любишь?
— Песни игррррать! Песни игррррать! Песни игрррать! Здрррасьте!
— Вот это по-нашенски! — раздалось в избе, и крестьяне захлопали, застучали по столам. <…>
Калека, ерзая телом, еще выше задрал свою голову с сидящей на ней сорокой и грозно и громко спросил:
— Сорока, а ты кто?
Сорока покосилась по сторонам, сверкая глазами, и протрещала:
— Я царррррррррь!
Мужики загоготали и зашлись в хохоте. <…> Кабатчик тоже рассмеялся своим презрительным смешком и взглянул на жену, которая была недовольна его решением приютить нищебродов. Сидя неподалеку от мужа, она, красивая женщина с крепким телом и волевым чернобровым лицом, тоже рассмеялась и встретилась с взглядом пристальных, как бы вечно что-то недовольно ищущих глаз мужа. «Вот так-то!» — говорил заплывший взгляд мужа, и она со вздохом отвела свои красивые глаза, дав мужу понять, что он оказался прав.
Представленьице нищих удалось. <…>
А кабатчик был доволен, что мужики, пялясь на калеку и сороку, выпили водки больше обычного. «Без заманки нынче прибытку не бывает, — думал он и со злобным пьяным раздражением вспоминал сбежавшего балалаечника. — Коль встречу дурака на ярмонке, разобью балалайку о его башку».
У Варина в старом сеннике было просторно, остатки старого сена лежали в углу, на них нищие и расположились. Фрол, напившись за вечер водки и хорошенько закусив, сразу заснул, привычно захрапев. Рядом с ним, как всегда в котелке, устроилась на ночь однокрылая сорока. А Ваня, свернув себе самокрутку, вышел из сарая на скотный двор и закурил.
Пыхтя самокруткой, Ваня двинулся по скотному. <…> Едва Ваня поравнялся с будкой, как с черного крыльца дома бесшумно сбежала женская фигура в белом. Ваня был в тени и сразу остановился. Он узнал жену кабатчика Полину. Освещенная луной, в ночной сорочке, с распущенными волосами, босая, она быстро и так же бесшумно пробежала по скотному к новому сеннику и исчезла в его слегка приотворенных воротах. Ваня остановился. Вдруг кто-то взял его за колено. Ваня опустил глаза и увидел женскую руку, высунувшуюся из собачьей будки. Он оторопел. Из будки высунулась и девичья голова. Ваня тут же узнал Матрену. Держа одной рукой Ваню за колено, палец другой она приложила к своим губам. Это было так неожиданно и необычно, что Ваня подумал, что спит. Он стоял, глядя на девку. Матрена тем временем осторожно вылезла из будки, встала перед ним и приложила свой палец уже к его губам, в уголке которых торчала самокрутка. Затем взяла его за руку и потянула в сторону. Он повиновался. Они зашли за дровяную кладню с навесом и остановились.
— Не шуми, не то прослышат, — шепнула Матрена и вдруг попросила совсем неожиданное: — Дашь покурить?
И сама вытянула самокрутку из Ваниных губ, затянулась и выпустила дым в сторону. Оказавшись в полосе лунного света, дым заклубился и высветился. Матрена снова затянулась.
— А чего ты… в будке этой? — произнес Ваня.
— Третью ночь тута прячусь.
— Зачем?
— Подслушать, как Полинка с хахелем своим милуется. Ох, люблю покурить-то… благодарствуй…
Ваня молча смотрел на Матрену. Все действительно было похоже на сон. И лицо ее в тени навеса было совсем другим, взрослым, осмысленным и даже привлекательным.
Матрена, докурив самокрутку, кинула ее на землю и наступила своей босой ступней.
— Хочешь послухать, как они милуются?
— Ну… — замялся Ваня.
— Пошли, — она схватила его за руку и повела за сенник.
— Токмо тихо! — шепнула она ему в самое ухо.
Они встали за дощатой стеной сарая. Оттуда, сквозь сено, послышались слабые женские стоны.
— Вот так кажную ночь! — шепнула Матрена. — Елозит Климка хозяеву женку, пока муж дрыхнет.
Ваня равнодушно послушал и вдруг зевнул. От происходящего и с усталости после вечера его потянуло в сон.
— А чего ты… в этой будке? — снова спросил он, всматриваясь в незнакомое, меняющееся в темноте лицо Матрены.
— А там хорошо. И не догадается никто.
Женщина в сарае глухо вскрикнула.
— Во, во как ее пробирает! — рассмеялась Матрена и пихнула Ваню.
— А ты с девками ышшо не баловался?
— Не-а.
— Я тоже ышшо под парнем не лежала, — вздохнула она. — Они меня чураются, обходят.
— Чего?
— А ничаво! В рванину одета, фасону нет.
— А ты здешняя?
— С Борохов я. Хутор тут неподалеку, семь верст. Тятьку забрили, мамечина одна колотится, трое дитев. Вот я и подалась батрачить, штоб лишним ртом не быть. Хоть кормят хорошо. Хозяин пока не выгнал. Лют он, дерется, зараза конская. Прислугу пужает, бьет. Потому как пьет. Бегут от него. Савоська-балалаешник сбежал. А как играл, как играл, сволачь! Аж сердечко стыло.
Она смолкла, приложив ухо к доскам сарая. Там внутри тоже все стихло.
— Отлюбилися, — усмехнулась девка. — Ничо, скоро опять зачнут елозиться. Ентот Климка — ходок в Манино известнай, многих девок перепортил. Он у них первый парень. Кудрявай, черт! И песни петь мастак. Вот Полинка на него глаз свой и положила. Слушай, а чаво ты ентого калику
возишь? Кто он тебе? Отец аль брат?
— Никто.
— Стало быть, платит?
— Мы все на еду тратим.
— А чаво ж ты возишь яво?
— Так надо.
— Ему надобно?
— Мне.
— Зачем табе енто?
— Так надо, — повторил Ваня со вздохом. — Так надо.
— Коль не хочешь, не сказывай. <…>
Сунул самокрутку в зубы, достал коробку со спичками. Чиркнул спичкой, закурил. Но не успел он сделать и двух затяжек, как сзади его ударили обухом топора по затылку и он упал ничком, теряя сознание. Над Ваней склонилась молодая женщина. Бросив топор, она перевернула парня на спину, запустила свою руку ему в карман штанов, вытянула коробку со спичками. Зажав коробку в кулаке, глянула в лицо лежащему. Ваня был без сознания. Луна осветила напавшую на него. Это была статная, рослая и красивая девушка семнадцати лет в крестьянской паневе, босая, с голыми по локоть сильными руками. Авдотья Коробова, единственная дочь манинского немого кузнеца Савелия, три года назад пришедшего в Манино с Белого моря, купившего избу на краю села и поставившего рядом свою кузню. <…>
Авдотье, к несчастью ее, уготовано было судьбою родиться красавицей. За строгую северную красоту, статность, светлый и густой волос, решительную и легкую походку, свободный звонкий смех положил на нее глаз свой Клим, кудрявый и громкоголосый деревенский сердцеед и девичий обидчик. Как и другие девки, она не смогла устоять перед этими серо-голубыми с поволокой глазами, быстрой лихостью, всей его ухватистой, ловкой и какой-то стремительной в любом движении, как у коршуна, фигурой и перед дрожащими над высоким лбом кудрями, этими золотистыми кудрями, которые он небрежно встряхивал одним легким движением головы, когда пел песни сильным и наглым голосом, подыгрывая себе на пиликалке.
Авдотья полюбила Клима. Их тайные встречи в заречной роще, в Резаном лесу, на Черном Кордоне, на сеновалах и в заброшенных банях кончились печально для нее. Она поняла, что беременна. Когда же открылась с этим Климу — он просто перестал с ней встречаться. Но самое страшное — перестал и просто замечать, словно ее, со всей красотою, статностью, смехом, радостью, утренними надеждами, дневной волной телесной свободы, ночными ожиданиями и воспоминаниями вовсе и не было на этом свете. Проходя мимо своей походкой коршуна или проезжая на лошади, он и смотрел мимо нее, и, самое страшное, от чего стыло ее сердце и плетьми обвисали красивые руки, — смотрел спокойно, без усилия, не отводя насильно взгляда, а так, словно ее, Дуни, Авдотьи Коробовой, не было, не было здесь, в настоящем, в этом густом и широком мире, не было и в прошлом — в березовой роще и в Резаном лесу. <…>
«Ну чаво ж…» — ответил Клим тогда в березовой роще на ее слова о беременности, отводя свой волоокий взгляд в сторону, словно меж белых стволов там стоял кто-то невидимый и важный для него.
И это «ну чаво ж» звенело у нее в ушах, заглушая звук молота в кузне. <…>
— Ну чаво ж… — шептала она в постели, кладя ладони на свой еще небольшой живот и закрывая глаза, чтобы заснуть. Но спать становилось все трудней. И однажды, не выспавшись за ночь, она утром пошла за хорошей водой к старому колодцу, что на речке. Спускаясь с пригорка, столкнулась с Нюрой, бабой, живущей напротив на другой стороне речки. И та, неся полные ведра на коромысле, поравнявшись с Дуней, почти пропела, насмешливо растягивая слова:
— Твой хахаль-то таперича с Полинкой тешится.
Авдотья, не останавливаясь, ответила ей злым взглядом.
— Чаво зыркаешь? Их Матрена вчерась баила — кажную ночь к ней в сенник шляется. Тах-то во, миленькая! <…>
В этот же день Авдотья решила убить Клима и Полину.
Дождавшись вечера, когда отец, настучавшись в кузне, повечерял картофельной похлебкой и пшенной кашей, понюхал табаку, помолился темноликому Спасу, крестясь двуперстно большой и жилистой рукой своей, и пошел спать, Дуня прошла в кузню, выбрала топор поменьше и поострей, завязала его в платок, дождалась, когда совсем стемнеет, и огородами пошла к кабаку. Она не знала, как убьет их, но была готова это сделать.
— Зарублю! — сказала она громко себе самой незнакомым голосом и прижала обмотанный платком топор к животу. <…>
Мягкими шагами приближаясь к сеннику, Дуня вдруг увидела двух людей, идущих к нему сзади, прямо за рябинами. Она подкралась к рябине и встала за ней. Дуня узнала прислужницу кабатчика Матрену, а парня не узнала. Матрена сперва почему-то курила, потом стала рассказывать парню шепотом что-то тайное, и вдруг Дуня услышала слабые стоны женщины. Женщина стонала в сеннике. И Дуня поняла, о чем шептала эта глупая девка. Парень и она подслушивали, что творилось в сеннике. А там делали то, от чего у Авдотьи молотом застучало сердце и кровь прилила к горлу. На сеновале творилось то, что касалось ее. Развязав топор, она повесила платок на рябину и стала сзади подходить к этим двум.
— Ладно, пойду я, — произнес парень, повернулся и пошел прочь.

Владимир Сорокин. Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев
Авдотья неслышными шагами подкралась к девке и встала у нее за спиной. Та подслушивала, прижав ухо к доскам сенника. Женщина стонала, вскрикивала, снова стонала. И по этим стонам и вскрикам Авдотья вдруг ясно поняла, что никогда не сможет зарубить этих двух, которые сейчас там, внутри, на сеновале, потому что недавно сама так же стонала и вскрикивала. Сердце билось, билось у нее в груди, отдавая в виски и в глаза.
«Что-то делать, что-то делать, что-то делать», — стучало сердце.
И Дуня поняла, что надо делать.
Она размахнулась и ударила девку обухом топора по голове. Та стукнулась лбом о доски и осела наземь. Дуня ощупала ее платье, но не нашла того, что искала.
«У него!» — вспыхнуло в голове.
Она неслышно побежала за парнем, обошла сенник и увидела его, стоящего спиной к ней в лунном свете и закуривающего. Подкравшись, она так же размахнулась и ударила его обухом по затылку. Парень упал как подкошенный. Отбросив топор, она перевернула парня на спину. Лицо его было ей совсем незнакомо. Обшарив его карманы, она нашла коробку спичек, схватила, зажала в кулак и побежала к воротам сенника. Взявшись за створу, потянула осторожно, ожидая скрипа. Но Полина сама смазала петли этих ворот, чтобы те не скрипели ночью. Бесшумно Дуня вошла внутрь. Сарай доверху был забит сеном. Только возле ворот осталось немного свободного места, а наверх, на сеновал, вела приставная лестница. Дуня прислушалась. Наверху было тихо — ни стонов, ни вскриков, ни разговоров. Любовники, насытившись друг другом, впали в забытье и лежали там в темноте рядом, обнявшись. Постояв и послушав биение своего сердца, Дуня разжала кулак с коробкой, достала спичку, чиркнула. Та сразу загорелась, осветив все — сено, лестницу, дощатый щелястый пол. Дуня поднесла спичку к сену. Огонь скользнул на сухие травинки, исчез в сене, оно сразу задымило белым, и Дуне показалось, что огонь погас, стало темно; но тут же пламя вышло из сена, ожило, вспыхнуло, потянулось вверх, побежало, потрескивая; белый, как молоко, дым заструился вверх, исчезая в темноте. <…>
Дуня вышла из сенного сарая. И чуть не столкнулась с Вариным. Большой, грузный, в белом исподнем, с револьвером в руке, он стоял перед ней. В доме у кабатчика о связи его жены с Климом знали уже двое — бабка Маша, видавшая их ночью, и половой Иван. Говорливую бабку Машу Полина подкупила тремя целковыми, чтоб молчала, чем та сразу похвасталась перед Иваном, выдав тем самым Полину. Тот ждал два дня денег от Полины и, не дождавшись, не стал доносить на нее, а просто растолкал спящего Варина со словами: «Хозяин, кто-то в сеннике шалит». Варин, крепко выпивший после удачного представленьица калеки и сороки, с трудом встал, достал из комода револьвер и пошел к сараю. Его испитое, красное и широкое лицо показалось Дуне медным котлом.
— Ты чего тут делаешь? — спросил этот котел неприятным голосом Варина.
Но в пьяных глазах его отразилось пламя сквозь проем в воротах. Дуня бросила коробку со спичками и кинулась прочь.
— Ах ты… — выдохнул Варин.
— Зажгла? — высоко и как бы вопросительно выкрикнул половой, стоявший позади Варина с ножом в руке, и указал этим ножом в убегающую, словно останавливая ее.
Варин выстрелил в Дуню. Ее ударило в спину, словно палкой, и она упала. Захотела встать, но палка, видимо, впилась ей в лопатку, и стало больно и тяжело. <…> Дуня потеряла сознание.
На сеновале первым очнулся от забытья Клим. Стало душно от дыма, снизу светило прерывисто, сполохи ожили на досках.
— Полина, горим! — Клим стал расталкивать любовницу.
Рядом внизу раздались крики и выстрел. Полина очнулась. Они кинулись по сену к лестнице, но пламя уж охватило весь скат сена, и языки его заплясали в воздухе перед любовниками. Клим понял, что по лестнице вниз уже не слезть.
— Прыгать надо! — крикнул он, задыхаясь в дыму.
— Пошла!
Он схватил Полину за плечи, толкая вперед, но она отшатнулась от пламени, вывернулась сильным телом, закашлялась:
— Ох, лихо!
Клим выругался и решил первым прыгнуть, вошел в языки пламени, примериваясь, но внизу увидел Варина. Варин, распахнув с Иваном ворота сенника, заревел:
— Пож-а-а-ар!!
Пламя уже охватило скат сеновала снизу доверху. Вдруг наверху в пламени и дыме возник Клим. В алой шелковой рубахе, озаренный пламенем, он показался Варину чертом. Волосы зашевелились на голове у Варина.
— Дьявол! — выдохнул он и выстрелил из револьвера в Клима.
Пуля прошла мимо, Клим оттолкнулся от верхней перекладины лестницы, прыгнул вниз и обрушился на кабатчика, валя его, да так, что нога у Варина подвернулась, хрустнула в колене.
Варин заревел от пронзившей ногу боли. <…>
Полина, наглотавшись дыма наверху, решилась прыгнуть вниз, встала на краю сеновала. Пламя охватило ее ночную рубашку. Она завизжала. Варин увидел ее наверху в пламени, с распущенными волосами, и тоже не узнал.
— Ведьма! — проревел он и выстрелил в нее.
Пуля прошла мимо, впилась в доски крыши. Перекрестившись и закрыв лицо руками, Полина прыгнула вниз, упала, валясь вперед перед лежащим Вариным, и ударила его головой в лицо. Варин откинулся навзничь, а вывернутое колено его хрустнуло снова, пронзив новой болью. От удара и боли кабатчик потерял сознание. Полина вскочила, сорвала с себя горящую рубашку, встала перед пылающим сенником. Огонь горел мощно, весь скат снизу доверху пылал, лестница занялась. На голую Полину дохнуло жаром.
— О Господи! — она охнула и попятилась, прикрывая наготу свою, словно стыдясь огня.
И вдруг поняла, что этот пожар и все это с лежащим здесь без сознания мужем, с ее прыжком сверху, криками, револьвером, стрельбой, горящей сорочкой и наготою — от ее греха, от тайной любви с Климом. Эта простая и сильная мысль парализовала ее. Прикрывая грудь и чресла руками, с распущенными волосами, она стояла, вперившись в огонь. Она, Полина Авдеевна Сотскова, уже полгода как Варина, выросшая в зажиточной семье лавочника из села Воскова, похоронившая первого мужа в свои двадцать лет и через год сосватанная за этого манинского кабатчика, тупого, как бык, и дикого, как волк, ставшего ей быстро ненавистным, влюбившаяся в Клима, за неделю стремительно отдавшаяся ему целиком, без оглядки, замышлявшая с ним побег на Волгу, к своему дядьке, хозяину рыбацкой артели, думающая о новой жизни, о том, что у нее, бездетной с двумя мужьями, с новым любимым пойдут красивые, кудрявые, как Клим, и чернобровые, как она, дети, живущая ежедневно этой новой надеждой, готовящаяся тайно к бегству, собравшая себе в дорогу уже денег и одежды, строившая подробные планы их побега, теперь же застывшая перед этой стеной огня с одним страшным словом, которое прошептали ее губы этому огню:
— Грех.
Это слово, тяжелое, как здоровенный валун на могиле ее первого мужа, вмиг придавило Полину со всеми ее мечтами о новой, счастливой жизни, о Климе, новом сердечном друге, не похожем ни на кого из мужиков, который подарил ей эту неделю полного счастья и радости.
Огонь горел, а камень давил, долговой камень.
— Грех? — снова произнесли ее губы.
В камне этом было все ее прошлое, что было до Клима, все эти полгода жизни с чужим, тяжко непонятным и поэтому нелюбимым человеком, который и сам был словно каменный, давящий ее радость и свободу собой и своим кабаком, для которого он и жил на этом свете. Ее душа вдруг вся сжалась под этим камнем:
— Грех?
Надо было ложиться в эту могилу, под тяжкий валун долга, общих правил и понятий, быть верной женой, поднимать покалеченного мужа, бежать, звать на помощь, чтобы огонь не перекинулся на дом и кабак, и дальше жить как надо, как все живут.
Но душа сама, без разума Полины, своим душевным телом вдруг вывернулась из-под долгового камня, что потрясло и укрепило Полину:
— Не грех!
Любить — не грех! Валун с души скатился, и роковой огонь этот сразу стал обычным огнем. А пожаров Полина навидалась на своем веку.
— Ох, лихо, лихушко! Авдеевна, голубушка, ты ж покройся! — раздалось сзади, и бабка Маша набросила на голые, красивые плечи Полины свой платок, в котором выбежала на крики и стрельбу. Но Полина уже поняла, что надо ей делать и кем теперь быть, и оттолкнула руки бабки, как руки всего прошлого, повернулась и пошла к дому. <…> Полина вошла в дом с черного крыльца, прошла в спальню, зажгла свечу, быстро оделась, взяла пачку припрятанных денег, открыла сундук, вынула стопку приготовленной одежды, сложила в саквояж, повязала голову платком, и с саквояжем пошла из дома, но, заслышав бегущих на пожар, решила выйти снова через черное крыльцо, чтобы не встречаться с ними; <…> Навсегда отвернувшись от них, она крепче сжала ручку саквояжа и зашагала прочь.
— Полина! — окликнули ее.
Она сразу узнала любимый голос и замерла, останавливаясь. Клим вышел к ней из темноты как чудо, как подарок. Мгновенье они смотрели друг на друга, саквояж выскользнул из руки Полины, она бросилась к любимому на шею. Он молча обнял ее, да так, что она все сразу поняла и без слов. После своего прыжка с сеновала, убежав от неохотно догоняющего его Ивана, Клим тут же вернулся к злополучному сараю со стороны луговины. Возле его стены ворочалась с разбитой головой Матрена. Не обращая на нее внимания, Клим зашел за угол и встал за створу распахнутых ворот сенника. В это мгновенье лежащий с вывернутой ногой и выпученными от ярости глазами Варин выкрикнул «ведьма!», выстрелил из револьвера, и прямо перед ним упала сверху объятая пламенем Полина, кувыркнулась и ударила мужа головой в лицо так, что тот опрокинулся. Затем она быстро вскочила, содрала с себя горящую рубашку, повернулась к пожару, встала, прикрывшись руками. И Клим вдруг увидел эту женщину. Она стояла, глядя на пожар. Клим, красивый и легкомысленный парень, девичий соблазнитель, кутила и любитель деревенских гульбищ и драк, относился к «ентим девкам» как к забавной скотине, примитивно используя их: легко влюблялся, легко и безболезненно бросал, тут же забывая, заводя новые и новые шашни. Бросив опостылевшую Авдотью, которая для него оказалась «дуже сурьезной», он «встретился глазами» с Полиной, сразу и сильно влюбившейся в него. Опустошенная жизнью с угрюмым кабатчиком Полина полюбила Клима всем сердцем, трепеща и замирая в ожидании их ночных свиданий. Он же, соблазнив Полину, уже с усмешкой хвастался парням, что «таперича загулял с женкой Бегемота», про себя решив, что с этой Полиной будет так же, как и со всеми другими девками. Теперь же, увидев ее из-за створы ворот голой, стоящей перед огнем, с распущенными волосами, прикрывающуюся руками, он застыл, словно мальчик, впервые увидавший женскую красоту. Уже достаточно повидавший за свои двадцать лет голых баб и девок, Клим вдруг увидел другое: перед ним стояла Женщина, освещенная пламенем. И это была его женщина. Она была потрясающе красива. Глядя из темноты на эту яркую красоту, он вдруг понял, что раньше ничего не знал, не понимал в этом и даже не догадывался о существовании такой красоты. От осознания этого он перестал дышать и совершенно оцепенел. Вся его прежняя история деревенского сердцееда, все эти быстрые встречи и объятия на сеновалах, эти стоны и шепоты в банях, в кустах, в рощах и в полях вдруг стали чем-то постыдным, убогим, ничтожным, скручиваясь и чернея, как горящая на огне береста. Огнем была Полина, а берестой — он. <…>
Их объятие в темноте все решило. Слов им не потребовалось. Клим подхватил ее саквояж, взял за руку и повел за собой в новую, совсем другую жизнь, которая разворачивалась к ним всем своим новым, по-особенному ощутимым пространством.