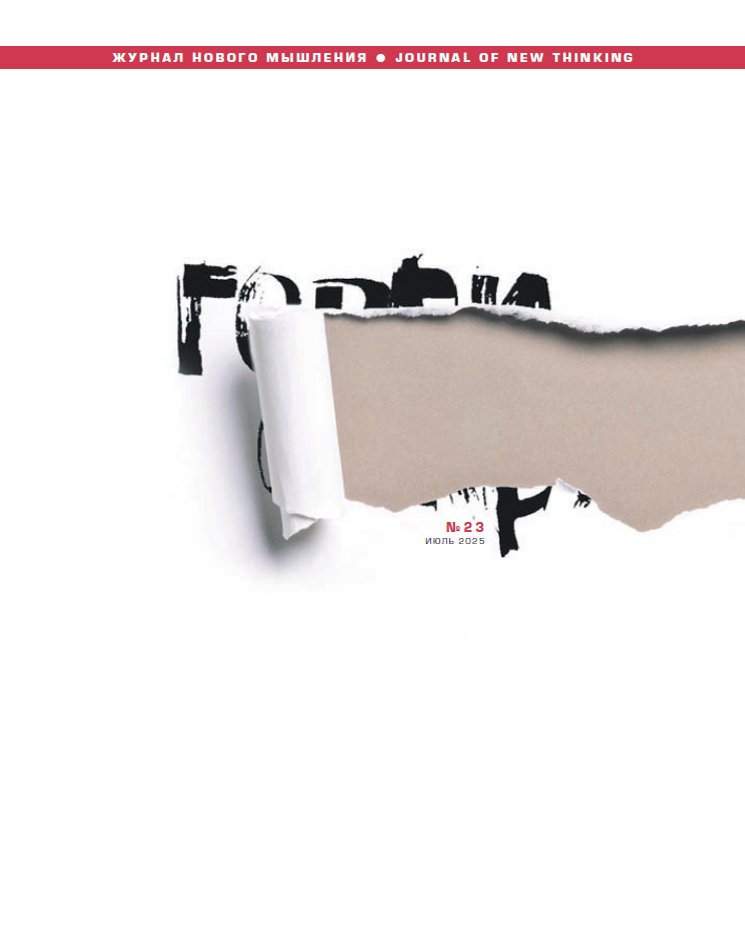Император Николай I награждает Сперанского за составление свода законов». Картина: А. Кившенко
(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.
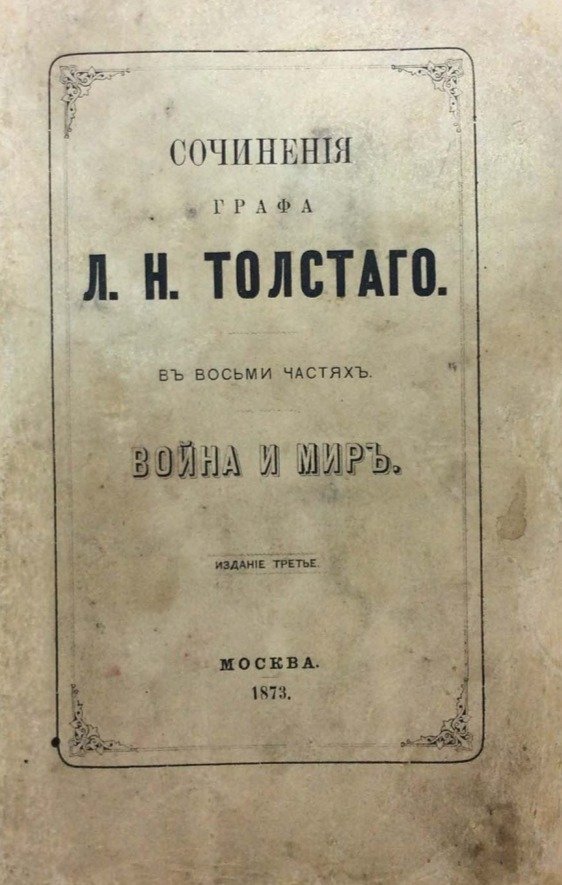
Лев Николаевич Толстой очень любил детей. И в жизни, и в литературе. В романе «Война и мир» все герои делятся на тех, кому не страшен детский взгляд — и кому подобный взгляд заказан. На Кутузова в Филях смотрит крестьянская девочка; на Безухова взирает маленький Николенька; оба испытание проходят. А государь Александр Первый, показанный глазами Пети, разоблачен наивностью подростка. И Бонапарт, дрожание левой икры которого есть великий признак, поставлен рядом с детским портретом наследника — чтобы стала очевидна его ничтожность…
Но двух персонажей главного русского романа представить рядом с детьми невозможно. Барклая де Толли и Михайлу Сперанского. Этих главных реформаторов империи (в гражданском и военном отношении) главный русский писатель считал главными виновниками всех исторических несчастий. И не был в этом одинок. Главный поэтический вельможа Державин писал: «Сперанский совсем был предан жидам чрез известного Перетца, которого он открытым образом считал приятелем и жил в его доме… Сперанского гласно подозревали и в корыстолюбии (по одному еврейскому делу), а особливо по связи его с Перетцом». Главный исторический мифолог и зачинатель новейшей словесности, Николай Михайлович Карамзин в «Записке о древней и новой России» указывал на Сперанского как на главного врага России. А главный лихач Отечественной войны, легенда и гордость русской армии князь Багратион примерно то же самое, только гораздо грубее, говорил о главном авторе плана отступательной войны: «Мы обосрали границу и бежали… Подлец, мерзавец, тварь Барклай…»
За Барклая заступился Пушкин, написавший мрачную элегию «Полководец» («Народ, таинственно спасаемый тобою, / Ругался над твоей священной сединою»). Но для Сперанского адвоката среди главных отечественных авторов не нашлось. Только среди профессиональных историков. Но академический ученый общественные репутации не создает; он их исследует.

Барклай де Толли работы Джорджа Доу (1829). Источник: Википедия
Так что же натворил Сперанский? За что его возненавидели Державин, Карамзин, Толстой? Может быть, за то, что он чужак? Нет, Сперанский плоть от плоти русского «глубинного народа». Сын деревенского священника из-под Владимира, он даже не имел фамилии — и получил ее при поступлении в семинарию. И знал страну не понаслышке, видел ее не из окна кареты.
Тогда, быть может, он делал карьеру, шагая через трупы конкурентов? Тоже нет. Просто был не только гениально одаренным, но еще упрямым и везучим; столичный митрополит Гавриил рекомендовал его в помощники князю Куракину, которого вскоре назначат генеральным прокурором, и Сперанский воспользовался шансом.
Или было «иностранное влияние», пресловутое финансирование из-за рубежа? Снова мимо. Да, он женился на англичанке, но исключительно по любви, а когда Елизавета Стивенс скоропостижно умерла, впал в полупомешательство, ушел из дома, еле оклемался — и воспитывал дочь в одиночку.
Тогда, наверное, он покушался на самодержавие? Отчасти да, но не пытаясь ничего разрушить. Он хотел не революции, а перестройки, думал о монархии нового типа. И действовал не против государя, а по его поручению. Сперанский был возвышен ровно в тот момент, когда Александр задумался об институтах, способных вытолкнуть увязшую империю вперед. Перед Михаилом Михайловичем была поставлена задача обеспечить гибкую модель державы, которая учтет особенности территорий — и обеспечит мощное развитие. Поэтому присоединенная Финляндия (1809) — осталась с конституцией и лютеранством, потому что это не Губерния, а Государство, как тогда же сформулировал Сперанский. И еще ему в обязанность вменялась перестройка управления, чтобы молодым аристократам и разночинцам выпадали одинаковые шансы, иначе какая динамика?
Однако перестройка требует не только перемен, но и отказа от вредных привычек. А это гораздо болезненней, чем создание новых реалий.
Мы тут жили, понимаешь, не тужили, все было, как при бабушке, как-то справлялись. И вдруг приходят самозванцы из деревни (города, колхоза, ставропольского совхоза) — и рушат устоявшиеся отношения. Противники назревших перемен называют это «поступиться принципами».
За это покушение на миражи реформатора Сперанского и возненавидели. Причем и те, кто лично потерял в доходах, статусе и самоощущении, и те, кто в результате приобрел, но решил отстаивать традицию.

Михаил Сперанский. Работа художника Тропинина. Источник: Википедия
В том же 1809-м под влиянием Сперанского Александр подписывает Указ «О придворных званиях», по которому камергеры и камер-юнкеры обязываются поступить в службу. И другой Указ, «О чинах гражданских», запретивший производить в коллежские асессоры лиц, не имеющих университетского диплома. Звучит предельно скучно, но суть вполне революционная. Не знатность или старшинство, а исключительно талант, усидчивость, образование отныне будут обеспечивать карьеру; безродный попович и 600-летний аристократ уравнены в правах. Мы помним, что Великая Французская революция началась созывом Генеральных штатов, когда король открыл дорогу третьему сословию. И что продолжилась она потоком крови. Так вот Сперанский предлагал произвести бюрократическую революцию, но удержать систему под контролем. Вот вам единый диплом, вот карьерная лестница, вот — монархическое государство, в котором каждому способному найдется роль. Для чего Марат и Робеспьер, если можно обслужить амбиции иначе?
Но если обезличена карьера, значит, нужно перестроить аппарат. И в октябре 1809-го царю представили обширный план преобразований. Смысл которого — ограничение монархии. Без конституции, но с элементами народного представительства, на основании имущественных прав. Нужно ли уточнять, что по факту землевладельцами давно уже были купцы и разжиревшие на откупах крестьяне? Что это, как не легализация будущего, вызревшего в настоящем?
Александр Павлович, в целом разделяя пафос своего помощника, предпочел слегка притормозить: выстроить медленный график реформ, чтобы они не пугали элиту. Два шага вперед, шаг назад, не дразним гусей, тише едешь, дальше будешь.
Сперанский вынужден был подчиниться. 31 декабря 1809-го 35 высшим сановникам империи были разосланы повестки: предлагалось явиться завтра на первое заседание Госсовета. И выслушать речь Государя, составленную ясно кем: Сперанским.
«…Каким образом в государстве, столь обширном, разные части управления могут идти с покойностию и с успехом, когда каждая движется по своему направлению, и направления сии нигде не приводятся к единству?
Одно личное действие власти… не может сохранить сего единства. Сверх сего, лица умирают; одни установления живут и в течение веков охраняют основания государств».
Чтобы обеспечить эту самую регламентацию, Госсовету предстояло за год рассмотреть и утвердить пакеты реформаторских законов. Январь: создается Министерство финансов и казначейство. Февраль: учреждается Министерство полиции, к Министерству внутренних дел присоединяется коммерция. Май: подготовка Государственного уложения. И выборы Собрания для его принятия. Август: пора преобразовать Собрание в Государственную Думу и назначить ее канцлера. Сентябрь, 1-е. Первый день русского Нового года. Дума принимает уложение. Март 1811-го: десятилетие царствования. Реформа проведена. Предварительное рассмотрение законов обеспечено, кабинет министров превращен в верховный правительственный орган, структура власти распределена на четыре ступени (волостная — окружная — губернская — верховная).
Если бы этот замысел воплотился полностью, кто знает, и судьба империи сложилась бы иначе. Тем более что системный ум Сперанского, и не менее системный ум Барклая, не ограничивались уровнем политики и бюрократии; оба видели историю в объеме, различали связь всего со всем. Именно поэтому в 1810-м Сперанский параллельно с Госсоветом, министерствами и судебной властью занимался темами образования, а Барклай, назначенный военным министром, прорабатывал записку «О защите западных пределов России», в которой говорил о неизбежности оборонительной войны. 2 марта 1810-го записка была высочайше одобрена, а через полгода подписан указ об учреждении элитарного учебного заведения, Царскосельского императорского лицея. Чтобы вырастить новые кадры для реформ, которые вовсю развернутся после победы.
Но Сперанский для победы нам не нужен. Так думали в салонах и в усадьбах, во дворце, в монастырях и в армии. Дайте нам наши привычки. Возьмите себе свои реформы.
Привычки — дали. Реформы забрали.
17 марта 1812 года отец-вдохновитель Лицея Сперанский был вызван к царю и обвинен в измене; после обыска Сперанского сослали в Нижний, а затем на Каму, в Пермь. Царь весной отрекся от ближайшего сотрудника в угоду массовой патриотической истерике, как летом отречется от Барклая, которого впоследствии восславит Пушкин: «О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой».

Гравюра В. Бромлея по рисунку Иглесона. Император Александр I
Да, Барклай вернется в действующую армию в 1813-м; в 1814-м участь Сперанского смягчится, ему позволят жить в новгородском имении, под фактическим домашним арестом. Здесь он сможет пересечься с графом Аракчеевым, который начал восхождение практически одновременно с Барклаем и Сперанским, но в отличие от них удержался во власти. Потому что покушался на что угодно, кроме привычек. Через Аракчеева Михаил Михайлович униженно сигнализировал системе: я тоже могу быть полезен. В 1816-м ему позволяют занять серьезный, но все же удаленный от столицы пост: пензенского губернатора. Через три года — назначают генерал-губернатором Сибири. В 21-м поручают возглавить комиссию по составлению законов; а вскоре вводят в состав комиссии по военным поселениям. То есть отдают во власть куратора, графа Аракчеева. Сохранился мемуар не самого приятного (и тоже восхищенного всесильным графом) мемуариста, Фаддея Булгарина, как Сперанский гостит в аракчеевском имении Грузино (1824):
«Когда все вошли в столовую, граф сел посредине овального стола, посадил возле себя М.М. Сперанского по правую сторону, по левую — одного из своих подчиненных генералов, потом каждому гостю указал рукою и мановением головы место, где он должен сесть, то есть на каком конце и на какой стороне стола, а мне словесно приказал сесть насупротив его…»
(интонация мемуара чем-то напоминает рассказ Николая Носова «Бобик в гостях у Барбоса»).
Можно лишь догадываться, какие чувства он испытывал, внимая этому «без лести преданному визирю». Но деваться было некуда.
При следующем императоре, Николае Первом, Сперанский совершит еще один интеллектуальный подвиг, кодифицирует российское законодательство. Полный свод законов — задача, достойная гения. Но не сомасштабная дару Сперанского. А главное, никто не позаботится о том, чтобы спасти репутацию великого русского реформатора. Не объяснит стране и миру, за что его подвергали опале. Как никто не объяснил стране, за что был отозван из армии Барклай. Но ему хотя бы задним числом поставили памятник у Казанского собора. «Здесь зачинатель Барклай, а тут совершитель Кутузов». Сперанский схожей участи не удостоился.
О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!
Это Пушкин. К сожалению, не о Сперанском.