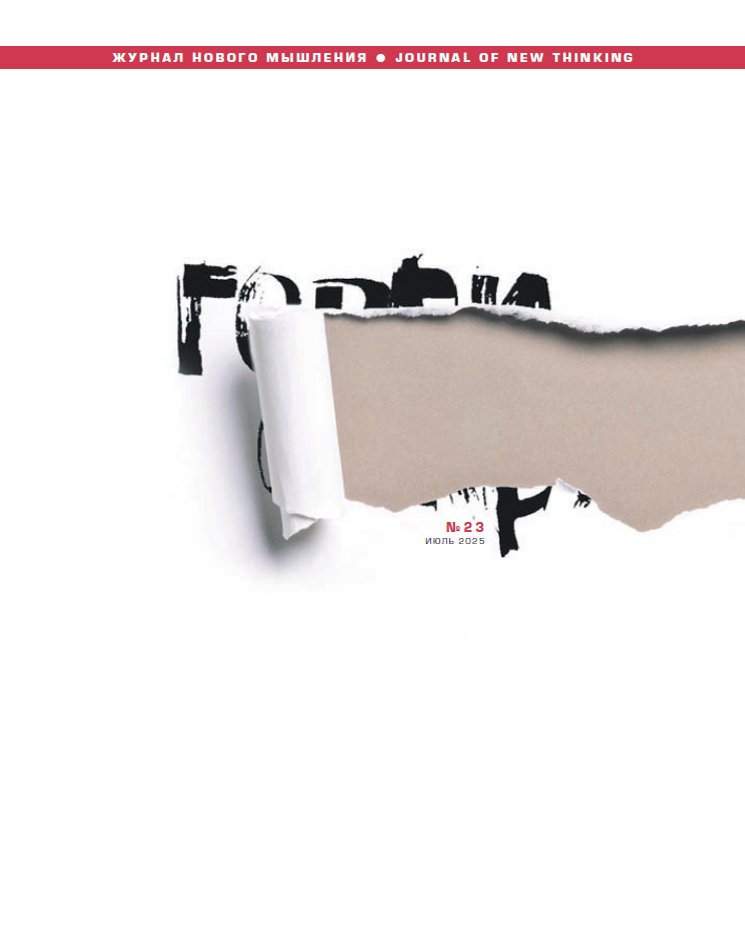Нынешней лидер британской оппозиции — правый популист Найджел Фарадж — на акции фермеров. Фото: NEIL HALL / EPA / TASS
Тема упадка социал-демократии давно стала притчей во языцех. Мейнстримные левые партии, десятилетиями игравшие ключевую роль в электоральной политике, теряют поддержку избирателей — этот процесс длится уже около сорока лет и особенно обострился в последние два десятилетия. Средняя доля голосов, отданных за социал-демократов в странах Европы, сократилась более чем на 10% с момента Великой рецессии (2008–2013) — и тенденция к снижению сохраняется.
Самая короткая история социал-демократии
Даже в тех случаях, когда социал-демократы сохраняют видимое присутствие в парламенте, это все чаще сопровождается институциональной слабостью и зависимостью от нестабильных коалиций. В Германии СДПГ в 2021 году получила 25,7%, но смогла сформировать правительство только в альянсе с «зелеными» и либералами. Этот союз стал политически неустойчивым и в значительной мере был парализован внутренними противоречиями. Во Франции Социалистическая партия фактически потеряла статус общенациональной силы, набрав меньше 10% на предпоследних выборах в парламент, а сейчас действует в рамках дисфункциональной левой коалиции. В центре Европы, в Австрии, одна из самых исторически сильных социал-демократических партий показала худший результат с 1918 года.
В Польше и Чехии социал-демократические партии исчезают с политической карты: в первом случае — с 8,6% на последних выборах, во втором — не преодолев парламентский барьер.
Даже в Скандинавии, долго служившей моделью для всей европейской социал-демократии, наблюдается устойчивая тенденция к снижению поддержки, несмотря на относительный успех местных социал-демократов на общеевропейском фоне.
Чтобы понять, как европейская социал-демократия пришла к современному кризису, необходимо очертить основные этапы ее развития — периоды подъемов, трансформаций и политической адаптации в последние сто лет.

Канцлер ФРГ и кандидат на пост канцлера Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам парламентских выборов. Фото: AP / TASS
Первая волна изменений приходится на период между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда социал-демократические партии приняли парадигму мирного перехода к социализму парламентским путем. Их основной социальной опорой стали индустриальные рабочие, чьи интересы эти партии представляли напрямую. В крупных европейских странах социал-демократы могли претендовать на 30–40% голосов и играть ведущую роль в коалиционных правительствах. В этот период окончательно закрепился стратегический раскол между социал-демократическим и коммунистическим движениями: второе — вдохновленное идеей революции — избрало путь радикального разрыва с буржуазными институтами и ставило целью строительство «рабочего государства» с отменой частной собственности.
После Второй мировой войны начинается следующая волна — эпоха зрелой социал-демократии. В условиях послевоенного консенсуса социал-демократические партии смогли расширить свою электоральную базу за пределы рабочего класса, апеллируя к новым слоям городского среднего класса и профессионалам. Их проектом стало «государство всеобщего благоденствия», основанное на кейнсианском макроэкономическом регулировании, активной фискальной политике, национализации ключевых отраслей, полной занятости и всеобщем доступе к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Таким образом, экономическая политика получала прямую и обратную связь — социал-демократы помогали создавать новые сектора экономики с достойными условиями труда, а профессионалы в этих индустриях становились новой, расширенной базой поддержки для мейнстримных левых.
Кейнсианская экономическая политика стала в тот период доминирующей идеей, и схожие экономические меры были приняты всем политическим спектром.
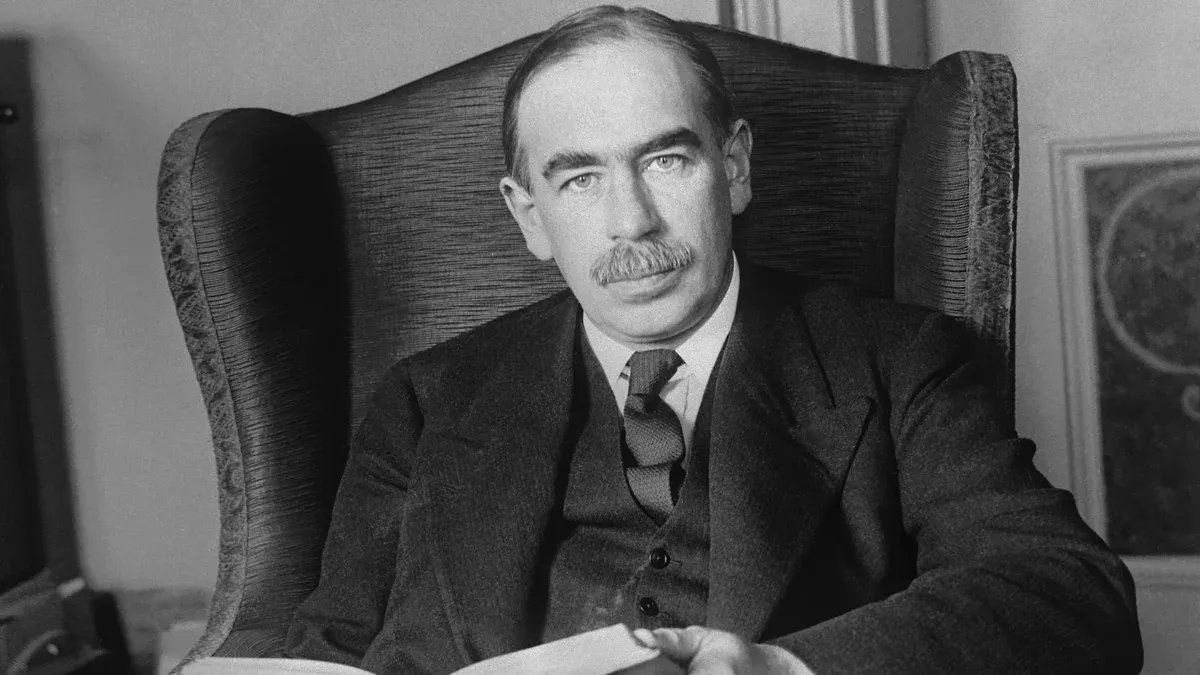
Экономист Джон Мейнард Кейнс. Фото: Getty Images
Нефтяной кризис 1970-х и стагфляция привели к неожиданной и резкой смене парадигмы политэкономического мышления. На смену кейнсианской экономике спроса пришла монетаристская экономика предложения. Монетаристы утверждали, что инфляция всегда является монетарным явлением и должна пресекаться через контроль денежной массы, а не стимулирования спроса. В западном мире началась эра стимулирования предложения, с фокусом на дерегулирование, снижение налогов, сокращение государственного вмешательства в экономику, глобализацию торговли и финансов. Кризис 1970-х годов обозначил подъем неолиберального экономического мышления, которое в целом доминирует в мире по сей день.
Как на это реагировали социал-демократы? Европейская социал-демократия постепенно адаптировалась к неолиберальному сдвигу, вырабатывая новый консенсус — политику «третьего пути». Падение Берлинской стены и Восточного блока ускорило эти процессы. Перед социал-демократическими лидерами встал вопрос: как сохранить в своих программах пафос социального прогресса, но уже при доминировании либеральной политики и глобальной экономики?
Здесь можно сделать монтажную склейку и переместиться в XXI век. Общеевропейский электоральный провал социал-демократов сегодня очевиден для всех, но именно здесь открывается пространство для конкурирующих интерпретаций.
Что пошло не так?
C какими социальными, культурными и экономическими противоречиями сталкиваются мейнстримные левые и почему они не могут дать на них убедительный ответ?
Согласно одной версии, реальность «постиндустриального общества» является безальтернативной. В рамках этой логики упадок европейского рабочего класса и перенос промышленности в страны Глобального Юга — неизбежное следствие современной экономики как таковой. В новых условиях действуют иные стимулы, формы занятости, механизмы роста. Все политические силы, включая социал-демократов, должны изменить свои программы и следовать общим фундаментальным рыночным принципам. Ключевая особенность анализа этого типа — восприятие электоральной демократии как одного из рынков, где политические силы конкурируют за избирателя. В аналитическом языке используются понятия спроса (предпочтений) со стороны избирателей и предложения (программ) со стороны партий. Сами партии рассматриваются как большие электоральные машины, которые способны оперативно адаптироваться к новым обстоятельствам, чтобы максимизировать число голосов. В анализе такого типа чаще всего используют количественные методы, кроме результатов выборов работая с массивами опросных данных.

Берлинская стена. Фото: picture-alliance / dpa
В логике анализа «дилемм постиндустриального общества» новые социал-демократы сталкиваются с большим экономическим компромиссом — это когда нужно выбирать между приоритетами профессиональных групп среднего класса, ориентированных на глобальную экономику, и традиционным электоратом в общественных секторах экономики.
Глобализация может сталкивать эти группы лбами, так было, например, в период Брексита, когда лейбористы обнаружили среди значительной части своих избирателей сторонников опции «выхода». Для этих социальных групп преимущества жизни внутри ЕС оказались куда менее очевидными, чем для мобильных (и в смысле социальной мобильности, и в смысле пространственной) профессионалов из больших городов.
Другая группа компромиссов связана с культурной и социальной политикой. По этой оси социал-демократам гораздо проще удовлетворить запросы образованных городских профессионалов, которым близки либеральные индивидуальные свободы. Кроме гендерного равенства, прав ЛГБТ-персон*, миграционных вопросов к ним часто относят и экологическую политику. Остается только догадываться, почему экологическая повестка выносится как вопрос «культурных и социальных предпочтений», ведь она самым непосредственным образом связана с нуждами энергетики, экономики и рынка труда. Так или иначе,
каждый следующий общеевропейский кризис в последние 20 лет усугублял одну или все дилеммы социал-демократов разом: так было с глобальной рецессией, миграционным кризисом, энергетическим кризисом, *** в Украине.
Если суммировать рекомендации сторонников концепции постиндустриальных дилемм, то социал-демократия может выйти из кризиса, только научившись эффективнее работать с разными социальными группами, усилив связи с «посредниками» — профсоюзами и общественными движениями, выстраивая более четкую и привлекательную коммуникацию.
Но за этим обтекаемым рецептом может скрываться гораздо более глубокая идеологическая проблема. Например, некоторые авторы прямо утверждают, что рост общественного запроса на инвестиции в экономике мог бы стать объединяющим пунктом для левого и центристского электората, но — парадоксально — реализации этой политики «мешают» сильные и централизованные профсоюзы, которые якобы защищают «потребление» в ущерб «инвестициям».
«Предатели». Европейская версия
Конкурирующая парадигма описания недавней истории социал-демократии во многом сводится к критике решений, которые принимают лидеры мейнстримных левых партий. Сама формулировка проблемы задает иную рамку: не объективные потребности глобальной, постиндустриальной экономики заставили «соц-демов» измениться; скорее социал-демократы сами сдвинулись вправо в сторону монетаризма и неолиберального консенсуса, при этом впитав вместе с духом времени прогрессивную «культурную» повестку.
Именно на это обращает внимание исследовательница европейской социал-демократии Шери Берман, когда описывает изменения в левой европейской политике. На ее взгляд, основное изменение в идеях и политике социал-демократических партий после 1980-х годов заключается в том, что экономическая и культурная политики с тех пор движутся принципиально разными путями. Партийные программы по-прежнему отсылают к ценностям равенства, инклюзии и разнообразия: поддержка мигрантов, ЛГБТ-персон, уважение к труду и социальная поддержка тех, кому в рыночном обществе повезло меньше, но экономическая политика резко сдвинулась в центр, в пользу рыночных решений социальных проблем.
С выводами Берман трудно спорить. Пожалуй, самым ярким примером доктрины социал-демократического третьего пути стали британские лейбористы периода Гордона Брауна и Тони Блэра.
Интеллектуальные основы «третьего пути» во многом сформулированы в фундаментальной работе британского социолога Энтони Гидденса с таким же названием. Гидденс выступал за «обновление социал-демократии», которое выходило бы как за рамки старой кейнсианской политики, так и за рамки рыночного фундаментализма. Это нашло отражение в новой политической повестке социал-демократических партий, которые теперь стремились сочетать социальную справедливость с «экономической эффективностью». Резко возросла роль рыночных механизмов, а государство уступило свою роль поставщика и производителя везде, где это было возможно, выполняя скорее роль посредника в предоставлении благ. Социал-демократы по всей Европе постепенно принимали новые принципы, значительно изменив экономический профиль своих стран.

Тони Блэр. Фото: AP / TASS
Новые социал-демократы взяли на вооружение специфическую концепцию инвестиций — через так называемые государственно-частные партнерства (PFI в Великобритании). Идея заключается в том, чтобы использовать капитал частного сектора для проектов в общественном секторе, прежде всего — в строительстве инфраструктуры.
Правительства «новых лейбористов» в Британии широко использовали эту схему для строительства школ, больниц, транспортных объектов. Публичные отчеты и журналистские расследования, оценивающие наследие PFI в Великобритании, содержат красноречивые цифры.
Парламентский комитет по государственным счетам установил, что с начала 1990-х годов государственный сектор использовал PFI для строительства более 700 объектов общественной инфраструктуры. Общий капитал этих схем в Великобритании составил примерно 60 миллиардов фунтов стерлингов, но государственные органы будут обязаны выплачивать долги по этим проектам на суммы, значительно превышающие потраченный частный капитал. В 2020 году Audit Scotland сообщил, что к 2047–2048 годам шотландские налогоплательщики суммарно заплатят более 40 миллиардов фунтов за активы PFI стоимостью всего 9 миллиардов фунтов стерлингов.
Частные компании-подрядчики делают баснословные прибыли на «общественных» проектах.
Как сообщает команда исследователей из JPMedia Investigation в своем анализе таких отчетов, школе могут выставить счет в 25 000 фунтов за три зонтика, больница может заплатить 5500 фунтов за новую раковину, а отделение полиции 884 фунта за один стул.
Независимые отчеты в рамках волны PFI периода правления Блэра сообщали, что в построенных больницах политика оптимизации превысила все разумные пределы. Сами больницы уменьшились в размерах, что особенно сильно отразилось на рабочих пространствах и коридорах, а коек для пациентов стало в среднем на 25% меньше. В британских медиа регулярно выходят материалы о наследии PFI, которые показывают в буквальном смысле разрушающуюся инфраструктуру. 17 шотландских школ, построенных в рамках такой программы, уже были закрыты, после того как в одной из них произошло обрушение несущей стены.
Многочисленные исследования, в том числе проведенные Национальным аудиторским управлением (NAO), показали, что контракты PFI обходятся налогоплательщикам гораздо дороже, чем сопоставимые программы, финансируемые из государственного бюджета, при этом зачастую принося лишь незначительные выгоды в плане эффективности или скорости реализации. Хотя схемы PFI «продавались» как модель эффективности и передачи рисков частникам, на практике многие риски оставались за государственным сектором. Если поставщик терпел неудачу или не выполнял свои обязательства, то именно государственные органы должны были вмешаться и устранить последствия за счет бюджетных средств.
Настойчивое стремление лейбористов к использованию PFI в таких секторах, как здравоохранение и образование, несмотря на растущие доказательства его неэффективности, подвергалось критике как догматичное и продиктованное скорее политическими соображениями, чем здравым экономическим смыслом.
Пожалуй, самый характерный пример сдвига социал-демократов вправо — это толерантность к мерам жесткой экономии бюджета.
В период глобальной рецессии после финансового кризиса 2007–2008 годов многие развитые страны приняли меры жесткой экономии в ответ на кризис. Эти меры, как правило, включали значительное сокращение государственных расходов, урезание социальных программ, пенсионную реформу, ограничение заработной платы государственных служащих, а в некоторых случаях — повышение налогов, например НДС. Дело не только в том, что эти меры вопиюще противоречат базовым социал-демократическим принципам, а в том, что они зачастую усугубляли экономические трудности, замедляли восстановление и усиливали социальное неравенство, ложась особо тяжелым бременем на самые незащищенные группы населения.
Яркой иллюстрацией провала мер жесткой экономии стали признания экспертов и представителей крупных институций, которые сначала настаивали на необходимости введения мер жесткой экономии для борьбы с кризисом. Например, Оливье Бланшар, бывший главный экономист МВФ, в 2013 году признал, что Фонд недооценил негативное влияние жесткой экономии на рост. Вместе с коллегой в 2013 году он опубликовал статью, в которой показал, что меры привели к более сильному, чем ожидалось, снижению роста, ухудшив показатели государственного долга вместо их улучшения.
Новый этап социал-демократии?
История социал-демократии новой волны показывает: сдвиг в сторону «третьего пути» дал возможность партиям получить голоса «нового среднего класса» — прогрессивно мыслящих жителей больших городов, молодых профессионалов, часто задействованных в новых секторах экономики. Они смогли затормозить негативный исторический тренд на падение популярности социал-демократов. Но ненадолго. В долгосрочной же перспективе это привело к потере социал-демократами значительной части своей традиционной базы — людей наемного труда в профессиях, которые теперь стали незащищенными, в отличие от «золотого века» государства всеобщего благоденствия.
В ответ на то, что традиционный электорат социал-демократов лишился привычного способа жизни и заработка, лидеры партий перешли не к разработке политики в интересах этих социальных групп, а скорее решили сдвинуть свои приоритеты и найти новых избирателей среди городского среднего класса.
Баланс экономической власти резко меняется от труда к капиталу, прежде всего — из-за потери профсоюзами их реальной переговорной силы на рынке труда. Как уже отмечалось, на смену экономике поддержки совокупного спроса и скоординированных мер в области производства пришла экономика предложения — теперь государство отдает приоритет «свободному» бизнесу как двигателю экономического роста.
Эту политику социал-демократов называют проблематичной по нескольким причинам.
Одна очевидная политическая проблема состоит в том, что сдвиг левых в центр не может быть стабильным, ведь электорат в центре не является ядром социал-демократов, он может проявлять значительную гибкость и колебаться в своих предпочтениях. Сегодня они выбрали левоцентристов, а завтра проголосуют за правоцентристов, «зеленых», новых левых или христианских демократов — это привычный паттерн поведения избирателей в Европе.
Другая проблема в том, что электорат социал-демократов из бывшего рабочего класса и другие социальные группы оценивают эту ситуацию как предательство левыми своих принципов, что ускоряет движение этих групп в сторону правых популистов. В британской политике прямо сейчас правопопулистская партия Reform UK под руководством Найджела Фараджа становится главной оппозиционной лейбористам силой, что показали как последние муниципальные выборы, где Reform разгромили остальные силы, так и опросы, фиксирующие предпочтения избирателей.
Академические исследователи прогнозируют несколько вариантов будущего для социал-демократии и, конечно, спорят о количестве возможных сценариев, будь это «окончательный упадок», необходимость дрейфа в сторону более прогрессивной экономической политики или переосмысление «третьего пути» с минимальными изменениями. Исходя из исторической логики европейской электоральной политики, сам вопрос о возможности трансформации лево- и правоцентристских партий больше не зависит от них. Электоральные машины построены для того, чтобы удовлетворять текущие запросы избирателей и воспроизводить политический класс, а не для того, чтобы сдвигать политические парадигмы. Скорее всего, пустующее пространство займут другие силы, а социал-демократы продолжат реактивную политику.
Владимир Метелкин