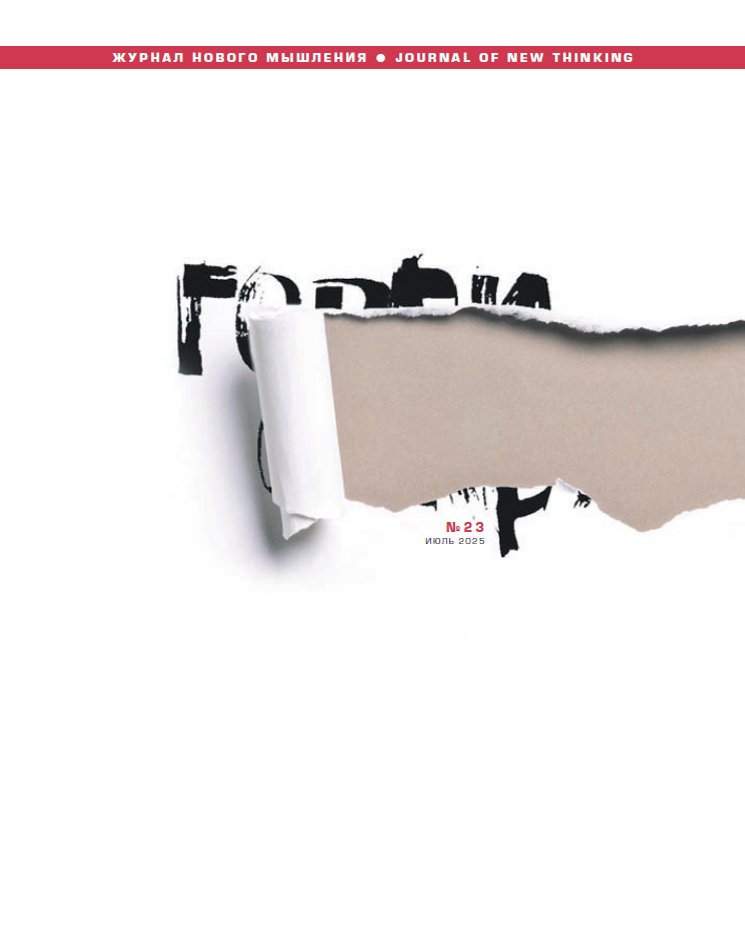Фото: Александр Река / ТАСС
Если все шагают в ногу, мост обрушивается.
Александр Галич
В опасные времена не уходи в себя.
Там тебя наверняка отыщут.
Станислав Ежи Лец
«Каждый век имеет свое Средневековье». Эту печальную мысль Ежи Лец высказал больше полувека назад. Но, похоже, она впрямую относится к нынешнему состоянию и нашей страны, и мира в целом. Мы видим почти катастрофический правовой, политический, моральный регресс на самых разных уровнях общественной жизни. Произошло возрождение примитивной архаики, причем в формах и степени, которые еще недавно было трудно вообразить даже социальным пессимистам. И говорят даже не просто o социальной деградации, а о наступившем «новом варварстве».
Люди и институты
Становится все более очевидной большая, а в некоторых случаях решающая роль не неких объективных и «непреодолимых» закономерностей, а субъективного, человеческого фактора, индивидуальных качеств и ценностей людей, действующих внутри политических и социальных институтов.
У нас стало своего рода мантрой повторять, что все наши беды идут от не реформированных до конца институтов, а поведение человека в них, дескать, запрограммировано. Что, на мой взгляд, верно лишь отчасти. Ибо хорошие институты — фактор необходимый, но недостаточный. В рамках институтов действуют конкретные люди. И у них есть выбор линии поведения. Во всяком случае, в институтах гражданских. К тому же в нормы большинства институтов заложен люфт, что позволяет лицам, обладающим властными правами, поступать при их реализации по-разному. Например, депутату проголосовать за очевидно плохой, аморальный закон — или нет; судье принять заведомо неправосудный, но желаемый некоему высокому начальству приговор — или нет. Антиправовые по своей сути действия людей в судейских мантиях, в полицейских и прочих правоохранительных мундирах — пример наиболее явный, хотя далеко не единственный?
Да, отказ играть по правилам, заданным сверху, может принести личные неприятности и даже стоить карьеры. А в предельных случаях — и свободы. Но это уже вопрос из области вечной моральной дилеммы — жить по выгоде или же по совести. Как и в какую сторону работают институты, зависит от этики работающих в них людей, их человеческих качеств и принципов, а не только от заданных сверху правил игры. И есть немало примеров того, как даже в несовершенных институтах отнюдь не герои, а просто порядочные профессионалы смогли сделать немало хорошего. И, напротив, даже идеальные институты при ущербной системе ценностей у людей, получивших возможность выступать от их лица, становятся контрпродуктивными и превращаются в симулякры. Да и «технологии» в руках людей, не имеющих полноценных (позволю сказать — нормальных) человеческих ценностей, превращаются в опасный технократизм. Они в равной мере могут служить как добру, так и злу. Вспоминается вопрос все того же Ежи Леца: «Людоед с ножом и вилкой — это прогресс?»
Впрочем, мы здесь не уникальны. Нечто похожее происходит сейчас в США, где нынешняя федеральная администрация действует, не особо считаясь с рамками и конституционными ограничениями политических институтов. Думаю, развитие и исход происходящих там событий имеет значение, далеко выходящее за рамки «кейса Трампа».
Почему случилось то, что случилось, и что можно этому противопоставить? Какие есть надежды на позитивный поворот или хотя бы на приостановку произошедшей и нарастающей катастрофы? О разных ее чертах и симптомах сказано и написано немало и достаточно ярко. В то же время гораздо меньше говорится об интеллектуальной оппозиции, об альтернативе и перспективах противостояния этому «мороку». А они, на мой взгляд, совсем не безнадежны. Так что статья состоит из двух частей — негативной, перечисляющей набор наших бед, и умеренно позитивной. Начнем с негатива.
Симптомы болезни
Набор негативных характеристик, описывающих нашу печальную реальность, а также их анализ представлен и в публицистике, и в науке достаточно широко и весьма убедительно. Обсуждение вопросов, поставленных многими уважаемыми авторами, не входит в задачи статьи. Но все же нельзя не напомнить, хотя бы методом перечисления, ряд названных ими факторов.
Это и злобный ресентимент, иллюзорно возмещающий личное бесправие негативной солидарностью на базе ненависти к «врагу». И расцвет безнаказанной «культуры жестокости», порой доходящей до садизма. И превращение судов из независимого арбитра в оформительский департамент репрессивной системы. И возобладание карательных, репрессивных начал в правоохранительной системе в целом, усугубляемое близкими к пыточным условиями исполнения неправосудных приговоров. И штамповка законодателями антиконституционных, по сути, законов — ситуация, названная еще В.О. Ключевским «отсутствием права при обилии законов». И аналогия с Византией, где «удобное императору имеет силу закона». И напыщенный национальный нарциссизм с его ненавистью ко всему «не нашему» как атрибут авторитарного режима. И «холопский патриотизм», шулерски подменяющий здоровое чувство любви к большой и малой родине. И порой не лишенные злорадности рассуждения на тему нашей якобы неисправимо дурной национальной «ментальности», о порочной «московской матрице». И «стокгольмский синдром», при котором беспомощность и страх заглушаются как бы любовью к всемогущему «отцу» — государству и вождю. И разжигание дремлющих националистических фобий. И легитимация так называемого административного рынка, что на деле означает приватизацию государства высшим слоем бюрократической «элиты». (Тут вспоминаются хлесткие, но точные белорусские слова — «хапуны» и «прикорытники».) И узурпация площадок для публичных высказываний персонами, заведомо лишенными чувства моральной ответственности, что сопровождается разными формами преследования людей с принципами и обладателей лучшего для перспектив развития страны интеллектуального и социального капитала. И все большее проявление элементов «опричного управления». И точечное преследование отдельных высокопоставленных коррупционеров, на деле работающее не на борьбу с коррупцией, а на острастку для «винтиков» административной вертикали. И акцент на цифровизацию и искусственный интеллект, что в условиях автократического правления открывает дорогу тоталитаризму. И сакрализация так называемого государственного интереса, что на деле ведет к научно-технической контрреволюции. И хамство как легитимная форма поведения, попрание человеческого достоинства на всех уровнях, от бытового до высшего политического, что объединяет «верхи» и «низы».

Фото: Александр Река / ТАСС
И даже философские постгуманизм, отвергающий приоритет человеческих ценностей, и постмодерн с его концепцией постправды. И морально разрушительный культ победоносного национализма, порождающий злокачественное перерождение патриотизма, о чем трагически писал Умберто Эко: «Дарить надежду собственному народу — для этого нужен враг. Говорят, патриотизм — последнее прибежище подонков. Не имея моральных принципов, мерзавцы обычно заворачиваются в знамя. Самоосознание строится на ненависти. Ненависти к тем, кто отличается. Враг — это друг всех народов. Нужно кого-то ненавидеть, чтобы оправдывать собственную мизерность». Формы его ситуативны и варьируются от антиамериканизма и антизападничества в целом до антисемитизма, белого расизма и ненависти к «понаехавшим». На это работает и подмена истории стран и населявших их людей историей государств и их властителей.
Диагностика
Резюмировать этот жутковатый набор можно утверждением: государство у нас плохое и жестокое по отношению к людям. Упрощенно можно сказать, что в демократических странах государство, как правило, лучше отдельного человека; у нас же — наоборот. Но, с другой стороны, это ведь означает, что у нас люди лучше государства. И здесь можно найти основания для осторожного оптимизма.
Разумеется, без совершенствования институтов не обойтись. Но не менее важен и человеческий фактор. Я далек от его идеализации. Большинство инвектив, адресованных нам, соотечественникам, увы, в той или иной мере справедливо. И в последние годы мы получили этому новые сильные подтверждения. Для понимания как минимум части из произошедшего слома массового сознания помогает категория цинизма, но не в узком, а в широком ее значении, покрывающем многие формы проявления и симптомов цинического мировоззрения. Здесь кажется весьма продуктивным подход немецкого философа Петера Слодердайка. Он рассматривает цинизм как хотя и ложное, но просвещенное сознание. Что отражает название его ключевой книги «Критика цинического разума» и позволяет выйти на ряд моментов, прежде всего — морально-этического характера.
С цинизмом открытым («цинизмом силы, при котором господствующие группы осуществляют свои цели откровенно аморальными методами») все более или менее понятно. На его описание и «разоблачение», думаю, не стоит тратить место. Но сложность в том, что он имеет свойство маскироваться, прикрываясь разными «объяснениями» и самооправданиями, что позволяет людям, не теряя психологического комфорта и самоуважения, сосуществовать со злом, но в мягких, «неоднозначных» его формах. Причем такие трансформации сознания самим человеком часто даже не осознаются. Назовем некоторые их варианты.
Ощущение беспомощности, неспособности повлиять на плохие, но кажущиеся неотвратимыми беды и события. Оно усиливается чувством морального одиночества: «Что я могу один?» К нему близко правило «выбора меньшего зла», поведение по принципу «пусть лучше это сделаю я, чем другой, заведомо плохой, который сделает хуже». Что как бы дает моральную индульгенцию на участие в, по сути, делании того же зла, но в более мягких, «терапевтических» формах. Известный и очень точный диагноз этому дала Ханна Арендт:
«Те, кто выбирает меньшее зло, очень быстро забывают, что они выбрали зло».
Как писал Иммануил Кант: «Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли затем жаловаться, что его раздавили?» У нас об этом на трагических примерах своего опыта принятия «меньшего зла» в условиях ГУЛАГа писал Варлам Шаламов. А Ежи Лец заметил:
«Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой».
В «лихие 90-е» наши прекрасные либеральные экономисты уделили мало внимания перехвату моральной повестки консервативными силами. И отчасти их можно понять.
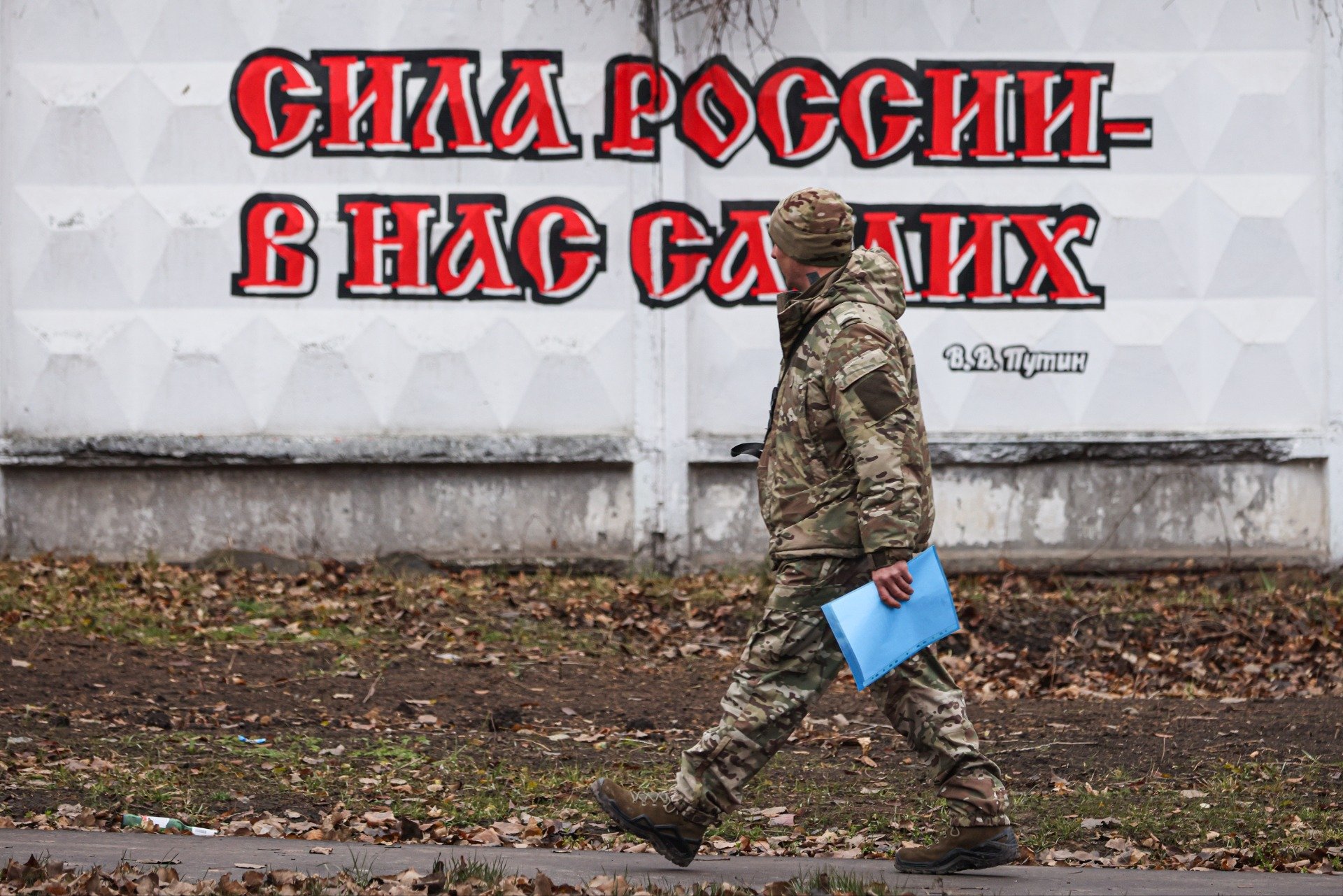
Фото: Александр Река / ТАСС
Казалось, в условиях многостороннего кризиса не до того. И уступки казались не такими уж серьезными. Но зло — это наклонная плоскость. И когда процесс пошел дальше, дойдя до реабилитации в массовом сознании образа Сталина, до возрождения идеи о якобы извечной злокозненности имманентно враждебного России Запада и далее по списку, было уже поздно. Политическая площадка, на которой формировались идеологемы «нового курса», была монополизирована официозом. Наступило время «единого учебника истории», государственной поддержки лишь «патриотического» искусства, переходящей все границы разнузданности телепропаганды ненависти ко всему «не нашему» и других форм массового оглупления. Как и поощрение эпидемии доносов, что есть, на мой взгляд, государственная легитимация подлости.
Одна из наших национальных болезней — пессимистический фатализм. В каком-то смысле мы — нация пессимистов. Мы очень склонны думать, что в любом случае «будет хуже». Еще Карамзин писал: «Старое зло нам привычней, чем новое добро, а новому добру как-то и не верится». И оправданности такого взгляда, к сожалению, есть много подтверждений. Но, с другой стороны, неверие в возможность хорошего препятствует любым положительным переменам и реформам с их неизбежным риском.
Один из популярных видов «объяснительной» мифологии — ссылка на якобы непреодолимую национальную ментальность. Для одних она — предмет гордости, «скрепа». Для других — проклятие. Дескать, мы, россияне, от природы или в силу истории морально-психологически непригодны для гражданского поведения, а деспотизм принимаем как неизбежность. Что, увы, несложно обосновать историческими примерами. Однако другими примерами это можно с такой же убедительностью опровергать.
Концепция «неудачного народа», «особого пути» представляет своего рода комплекс национальной неполноценности, имеющий, на мой взгляд, психотерапевтическую или пропагандистскую, но не реально аналитическую ценность.
Вспоминается король из шварцевского «Обыкновенного чуда», оправдывающий свои подлости дурным наследством, полученным от предков.
Фактором, оказавшим очень сильное негативное влияние на общественное мнение и сознание, был феномен обманутого доверия. Во время перестрои?ки возник запрос на реальную демократию и устранение персонажеи? прежнего режима на всех уровнях власти (чего, как известно, не произошло). Но все же в политическои? и деловои? элитах появились и некоторые новые лица, а лица прежние освоили демократические манеры и стали произносить демократические слова. И люди им в общем поверили. К сожалению, вера эта не выдержала проверки реальностью. Хуже того, она цинично эксплуатировалась и нуворишами, и их административными соратниками, и мелкочиновнои? челядью. Как краи?няя форма цинизма возник даже термин «новое дворянство». Причем особенно охотно его стали примерять к себе сотрудники спецслужб.
Разумеется, разрыв между высокими, завышенными ожиданиями и суровои? реальностью, порождающии? феномен последующего социального разочарования в оценке происшедших перемен, — вещь в период транзита неизбежная. Реальность всегда отличается от романтических надежд и упрощенных идеализированных образов «счастливого будущего». «Революция ожиданий» — вещь обычная в эпоху реформ. Однако в нашем случае разрыв оказался чрезмерным, неприемлемо большим. И ценой, заплаченной за это, стала потеря доверия к демократическим институтам как таковым, к социальной справедливости вообще и даже к принципиальной возможности иметь честное правительство. А страшный рост системной коррупции стал иммманентной частью государственного управления. Одним из последствии? стало возникновение автократического режима с коррупцией как одним из механизмов контроля и манипуляции близкими к власти людьми.

Фото: Александр Река / ТАСС
Есть несколько способов анестезии общественной совести при виде производимого политического зла. Один из них — забота о повышении или как минимум поддержании определенного уровня бытового комфорта в повседневной жизни людей. Масштаб действий в этом направлении существенно различается и зависит от материального уровня бюджета региона. Но общая тенденция явно просматривается. Наиболее яркий пример — Москва со скачком в развитии бытовой инфраструктуры, с бурным строительством всевозможных торговых центров, отелей, культурных заведений, автомобильных дорог, метро вплоть до велосипедных дорожек и гигантских цветников. Об эстетической стороне дела сейчас не будем говорить. Но в целом нельзя не признать справедливость мэрской самооценки: «Москва похорошела». Действительно, городская жизнь стала комфортней. Но как давно известно, тот, кто предпочитает бытовые блага свободе, в конечном счете лишается и того, и другого. И ни сентиментальные «лучики добра», ни тиражирование в сетях милых котиков и детей тенденции «расчеловечивания» не отменяют.
Более тонкий вариант моральной драпировки политического зла — патерналистское поощрение управляемой, «послушной» культуры: продвинутые художественные выставки, модернистские театральные постановки, музыкальные концерты и т.д. Что создает обманчивую видимость творческой свободы и вообще «цивилизованности». Впрочем, в последнее время власти налагают цензурную лапу и на это, зачисляя политически неугодных творцов в «иноагенты» и вводя запрет на публичное представление их произведений, а то даже и на упоминание их имен.
А «творцы» за небольшими, хотя очень значимыми в моральном плане исключениями, послушно принимают задаваемые сверху новые «правила игры».
Наверное, в житейском да отчасти и в творческом отношении это можно понять. Но, с другой стороны, отсутствие солидарности не только калечит творческие и человеческие судьбы конкретных людей, но и неизбежно ведет к понижению общего уровня произведений культуры.
Не оставили в стороне от этих процессов и науку. Даже в ведущих университетах страны, таких как «Вышка», МГУ, а также в академических институтах, произошли и продолжаются как кадровые «зачистки» кажущихся недостаточно лояльными профессоров и исследователей, так и «корректировка» программ и тематики. И даже высокий научный уровень и моральные качества кандидатов на увольнение порой являются не защитой, а скорей основанием для подозрения. Дескать, нужны не «умники» с независимыми мозгами, а послушные, управляемые. Реакция же научного сообщества на происходящее уничтожение даже ограниченной академической свободы, как и в среде художественной культуры, довольно вялая. В лучшем случае она сводится к конформистскому принципу принятия «меньшего зла» в надежде самосохранения и «спасения дела». Что можно бы понять, если не замечать эскалации происходящих негативных процессов, а также забыть о печальной закономерности, по которой цепь уступок, каждая из которых кажется не столь уж важной, в итоге приводит к утрате и главного, того, ради чего все уступки, казалось бы, и принимались. Так, ВШЭ, еще совсем недавно флагман в нашем высшем образовании, перестала существовать в этом качестве. С самыми негативными последствиями и для науки, и для полноценного образования, которое, «подстилаясь» под текущую политическую конъюнктуру, жертвует качеством выпускаемого ей на рынок труда и в общественную жизнь человеческого капитала.
Один из способов ухода от острых проблем — демагогия на тему ценностной нейтральности науки. Пусть фраза Паскаля, что, если Францию покинет сотня ученых, она превратится в страну идиотов, сегодня звучит драматическим преувеличением, но даже такой в целом консервативный и не столь уж далекий от нашего времени и современной науки Пастер писал: «Если бы Франция потеряла 100 политиков, то ущерб был бы небольшим, а если ее покинут 100 людей культуры и науки, она как страна перестанет существовать».
Еще один вариант — выборочное поощрение управляемой благотворительности. Вспомним хотя бы регулярные призывы НТВ к сбору средств на лечение конкретного несчастного ребенка. На мой взгляд, на фоне безумных по масштабу иных затрат государственных средств подобная спекуляция на человеческом сочувствии к чужим бедам сильно смахивает на цинизм. К тому же некоторые считают управляемую благотворительность своего рода вербовкой благотворителей, как и культуры, их превращение в соучастников проводимой государством политики, в отличие от независимой, «низовой» благотворительности, к которой власть, как и к любой неподконтрольной ей социальной активности, относится с недоброжелательной подозрительностью.
Нельзя не упомянуть и о дремлющем, но всегда готовом к активизации антисемитизме, а также о распространенном агрессивном неприятии «понаехавших». Но это отдельная и очень болезненная тема.
Подытожить это печальное, но необходимое для самоанализа перечисление защитных механизмов нашего травмированного сознания, думаю, можно категориями морального релятивизма и даже моральной глухоты, социальной инфантильности, безответственного «пофигизма». Живет логика персонажа Достоевского: «Свету ли провалиться иль мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить». И на этой «оптимистической» ноте перейдем к извечному российскому вопросу «Что делать?».
Моральная терапия
Нисколько не претендуя в этой статье на выдачу политических или социальных «рецептов», на «хирургические» способы лечения, обращаюсь к моральному, человеческому аспекту. Поскольку не только институты, но и конкретные поступки, поведение людей определяют очень многое. Человеческий фактор как минимум отчасти компенсирует плохие институты, что представляется здоровой реакцией на плохое качество государства. И без активного участия в политике самих граждан даже хорошие реформы, подобно карете из сказки о Золушке, превращаются в тыкву. Хотя мы видим, что и публичная героическая демонстрация своих принципов и несогласия с властями не дает гарантий успеха, а ведет зачастую к усилению репрессий.
Как писал исследователь политической этики Джеймс Дэвид Томпсон, «хотя этика порой кажется менее важной, чем все остальные вопросы, но поскольку она косвенно влияет на все принимаемые решения, в итоге именно она оказывается самой важной». А этика впрямую связана с интеллигентностью в подлинном, «лотмановском» смысле слова. Что предполагает готовность поступать не по выгоде, а по чести и совести, стыд, внутренние самозапреты на безнравственные поступки, «страдающую любовь к родине» как противоположность «холопскому патриотизму».
Сегодняшняя действительность, похоже, имеет к этому мало отношения. Но пренебрежение моралью для политиков отнюдь не неизбежность. Даже далекий от идеализма Бисмарк писал в мемуарах:
«Война — это ад, и тот, кто развязывает ее росчерком пера, — сущий дьявол».
И прогресс техники лишь вводит нас в следующий круг ада. Ибо в отрыве от этики и культуры овладение новыми технологиями и искусственным интеллектом превращает нас в нечто подобное роботам.
Да, противостоять торжествующему аморализму, особенно на его пике, нелегко, опасно и далеко не всякому по силам. Но возможно. Вспомним пример из античности. Александр Македонский, покорив Персию, стал пренебрегать обычаями греческой демократии и заимствовал немало из восточных обрядов выражения холопской покорности властителю. В частности, обряд проскинезы. Суть его такова: царь на пиру поочередно поднимает бокал за каждого из приближенных (за очередностью тостов все с волнением следят). Тостуемый пьет свой кубок, совершает коленопреклонение и затем удостаивается поцелуя Александра. И вот на одном из пиров некто Каллисфен, ученик Аристотеля и человек, близкий к царю, услышав свое имя, не стал преклонять колен, а, выпив кубок, прямо направился к Александру за поцелуем. Тут один из приближенных льстецов крикнул: «Не дари, о, царь, поцелуя тому, кто не почтил тебя». На что Каллисфен громко ответил: «Что ж, значит одним поцелуем меньше». В итоге обряд превратился в фарс, и сама идея ввести проскинезу в эллинском мире провалилась. Так что поступок даже одного члена приближенной к властителю элиты может кое-что изменить. Правда, самого Каллисфена придворные интриганы в итоге съели.
Да, на поступок в духе Каллисфена способен далеко не каждый. И дело даже не только в недостатке смелости, но и в различиях психологических типов людей. Ведь даже просто отказ от пожатия плохому человеку руки для многих труден чисто психологически. Но хотя бы неучастие во зле, во лжи (по Солженицыну) — вещь, гораздо более доступная. На первый взгляд это minimum minimorum для любого порядочного человека, но, увы, под разными соусами очень многими не соблюдается, камуфлируясь, например, самооправданиями типа «я лишь выполнял приказ, как и все другие вокруг». Здесь, на мой взгляд, происходит подмена личной ответственности фикцией ответственности коллективной. И, значит, «если все виноваты, то не виноват никто».
Да, противостоять торжествующему аморализму, особенно на его пике, нелегко, опасно и далеко не всякому по силам. Но возможно. Вспомним пример из античности. Александр Македонский, покорив Персию, стал пренебрегать обычаями греческой демократии и заимствовал немало из восточных обрядов выражения холопской покорности властителю. В частности, обряд проскинезы. Суть его такова: царь на пиру поочередно поднимает бокал за каждого из приближенных (за очередностью тостов все с волнением следят). Тостуемый пьет свой кубок, совершает коленопреклонение и затем удостаивается поцелуя Александра. И вот на одном из пиров некто Каллисфен, ученик Аристотеля и человек, близкий к царю, услышав свое имя, не стал преклонять колен, а, выпив кубок, прямо направился к Александру за поцелуем. Тут один из приближенных льстецов крикнул: «Не дари, о, царь, поцелуя тому, кто не почтил тебя». На что Каллисфен громко ответил: «Что ж, значит одним поцелуем меньше». В итоге обряд превратился в фарс, и сама идея ввести проскинезу в эллинском мире провалилась. Так что поступок даже одного члена приближенной к властителю элиты может кое-что изменить. Правда, самого Каллисфена придворные интриганы в итоге съели.

Фото: Георгий Чернышов / ТАСС
Да, на поступок в духе Каллисфена способен далеко не каждый. И дело даже не только в недостатке смелости, но и в различиях психологических типов людей. Ведь даже просто отказ от пожатия плохому человеку руки для многих труден чисто психологически. Но хотя бы неучастие во зле, во лжи (по Солженицыну) — вещь, гораздо более доступная. На первый взгляд это minimum minimorum для любого порядочного человека, но, увы, под разными соусами очень многими не соблюдается, камуфлируясь, например, самооправданиями типа «я лишь выполнял приказ, как и все другие вокруг». Здесь, на мой взгляд, происходит подмена личной ответственности фикцией ответственности коллективной. И, значит, «если все виноваты, то не виноват никто».
Было бы нелепо недооценивать влияние материальной обусловленности на поступки человека. Один древнеримский философ заметил: «Жалованье делает человека рабом». Но не всегда и не до конца. Есть и другие, нематериальные мотивы поведения. Еще Сократ в Платоновой «Республике» говорил, что
очень важную часть человека составляет его духовное начало — thymos. Именно оно подвигает человека совершать поступки, не находящие объяснения в рамках материалистических мотивов, а в предельных случаях — и жертвовать жизнью во имя отнюдь не материальных ценностей.
Борьба за личное достоинство — важная часть идентичности человека. Это находило то или иное воплощение в большинстве главных философских и религиозных систем. В современной гуманистической психологии это описывается как потребность в самореализации, или «потребность смысла жизни». Психологически доказано, что человек способен успешно действовать в жизни, лишь если он обладает сознанием ценности собственной личности. Иначе его вера в собственную «ничтожность» негативно влияет на его поведение, становясь как бы «самоорганизующимся пророчеством».
В последнее время опять обрели популярность стенания о нашей едва ли не генетической неспособности к демократии, о фатальной непреодолимости «московской матрицы» и т.п. При всем уважении ко многим их выразителям и их аргументации, полагаю, что они наносят немалый ущерб нашему общему моральному настрою. Принадлежа к умеренным «историческим оптимистам», я считаю, что у России нет цивилизационного запрета на переход от авторитаризма к демократии. У нас всегда, наряду с верноподданнической, выживала и воспроизводилась альтернативная, персоноцентристская контркультура. Обычно в доказательство ссылаются на великую русскую литературу. Но она — лишь один из ее источников: даже в самые тяжелые времена, вопреки всем гонениям и государственным репрессиям, не исчезала и «низовая» общественная активность в самых разных формах независимой общественной деятельности. Которую власти всегда старались как минимум притушить.
В фундаментальных вещах Россия не так уж отличается от других стран. Мудрец Льюис Кэрролл, автор приключений Алисы, писал: «История любой страны кишит постыднейшими фактами… Когда мы узнаем об истории больше, патриотизм наш рухнет или сменится злым цинизмом, или мы нарочно откажемся видеть правду. Чтобы он не приносил вреда, его надо принимать как сказание… Разновидность патриотизма — уже не чувство, а твердая, даже грубая вера, что твоя страна или твоий народ действительно лучше всех. А если наша нация настолько лучше всех, не обязана ли она всеми править? В самой крайней форме такой патриотизм становится расизмом толпы».
Но граждане страны, чаще под воздействием неудач и трагедий, вполне способны менять и господствовавшую «ментальность» нации, и траекторию развития страны. Причем в некоторых случаях неоднократно. Скажем, в Японии менее чем за сто лет четырежды (!) весьма кардинально менялись и нормативная ментальность, и связанная с ней политическая идеология. А еще более яркий пример — Израиль, где в пределах жизни одного поколения, по существу, зародилась новая нация, для которой прежняя тысячелетняя ментальность выживания через приспособление к нормам и нравам стран рассеяния в общем сохранилась лишь в ностальгических формах. А второе свободное поколение процесс завершило. Сформировалась новая идентичность израильтян. Разнообразная, но в ключевых моментах общая.
«Банальность зла», детально проанализированная Ханной Арендт, — жестокая реальность нашей социальной жизни на разных ее уровнях.
Люди, находясь под давлением системы и политики, поощряющих поведение, плохое с точки зрения гуманных моральных стандартов, и наказывающих за противостояние, совершают ужасные вещи. Но другой великий психолог, Филипп Зимбардо, автор Стэнфордского тюремного эксперимента, описав «эффект Люцифера» — механизм легкого «превращения хороших людей в злодеев» и признав все резоны концепции банальности зла, противопоставил ей «банальность героизма». Причем он счел ее не уникальным, а потенциально почти нормальным явлением. «Каждый из нас может с легкостью стать героем или злодеем в зависимости от того, какие ситуационные силы на нас влияют… Но для любого общества важно создавать «героические образы… напоминать людям, что каждый из нас — герой, ждущий своего часа; что он готов услышать и поступить по совести, когда наступит решающий момент». И человек поступка в какой-то момент поднимается над давлением системы, над связанным с этим личным риском и опасностями. Порой даже сам того от себя не ожидая. «Человек-танк» — обычный китайский юноша, в одиночку вставший перед колонной танков на их пути на пекинскую площадь Тяньаньмэнь в трагическом мае 1989 года и «всего лишь» на 30 минут задержавший их движение, был признан журналом «Тайм» одним из 100 самых влиятельных людей ХХ века.
Но героизм, особенно не военный, а гражданский, совсем не обязательно связан с готовностью пойти на физический риск. Есть много других его форм. Пожалуй, главное в классификации Зимбардо — это моральный выбор человека, поднимающегося над ситуационным давлением во имя неких более для него важных принципов. И мне кажется, не случайно он завершил свою книгу цитатой из Солженицына: «Линия, разделяющая добро и зло, проходит… через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца».
А мы завершим куда менее известной цитатой Козинцева из его текста о шварцевском «Драконе»: «В железный век мечты о золотом веке безумны. Но, может быть, именно они и помогают победить железо?» И еще напомним кантовскую максиму: «Этика — это спасательныи? круг человечества». Что особенно актуально во времена торжествующего аморализма. Конечно, в неи? звучит пафос моралистическои? идеализации. Но на то она и максима.
Александр Оболонский